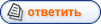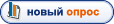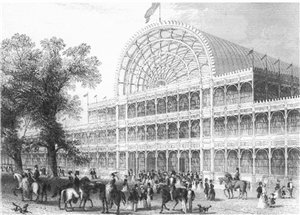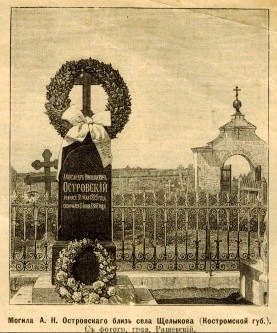|
|
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 30.12.2014, 20:53 | Сообщение # 31 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 291
Статус: Offline
| МАРТЫНОВ И АЛЕКСАНДРИНКА
10 марта 1859 года было в литературном кругу в Петербурге событие: в большом зале ресторана Дюссо чествовали обедом актера Мартынова.

Это случилось в "эпоху обедов", и, собственно, необычными были здесь две вещи: первое, что у Дюссо сошлась на этот раз едва ль не вся по тому времени русская литература - Толстой, Гончаров, Тургенев, Островский, Писемский, Салтыков, Некрасов, Чернышевский, Добролюбов, Курочкин, Григорович и украинский гость - поэт Шевченко. Второе, что заметного повода к такому торжеству не было - ни круглой даты, ни юбилея. Мартынову объяснили, что обед устраивается по случаю его скорого отъезда за границу для лечения и отдыха. А кто говорил - в благодарность за его игру в новой роли - Боярышникова в комедии Чернышева "Не в деньгах счастье". Словом, решили чествовать, а причину придумывали задним числом.
Потом оказалось, что в затее этой была мудрая предусмотрительность. До юбилея своего Мартынов не дожил, а слова великой признательности услыхать успел. И то, что обед был устроен как бы без повода, и не театральной дирекцией, не актерами даже, а лучшими людьми русской литературы, сделало его событием.
Разнесли шампанское. Дружинин поднес Мартынову альбом с фотографиями всех присутствующих и адресом, ими подписанным. Некрасов прочел посвященные артисту стихи:
Со славою прошел ты полдороги,
Полпоприща ты доблестно свершил.
Мы молим одного: чтоб даровали боги
Тебе надолго крепость сил...
Чтоб в старости былое вспоминая,
Могли мы повторять смеясь:
А помнишь ли, гурьба какая
На этот праздник собралась?..
На обеде присутствовали почти все сотрудники "Современника". Собрались "гурьбою" в тайной надежде преодолеть начавшийся раскол. "Свободную семью людей свободных Мартынов вкруг себя в тот день соединил", - еще раз пытался закрепить стихами этот союз Некрасов.
Островский выступил с речью, где благодарил Мартынова за то, что его "художественная душа всегда искала в роли правды". Получив известность в репертуаре переводном, во французском водевиле по преимуществу, говорил Островский, теперь вы помогаете нам отстаивать "самостоятельность русской сцены".
Мартынов был потрясен, сконфужен, растроган. По его необыкновенно подвижному лицу волнами пробегало смятение от всех этих похвал. Со слезами на глазах он жал руки присутствующим. С ответной речью он так и не сладил и, поминутно смущаясь, повторял несвязные слова благодарности.
О нем вообще известно было, что он не по-актерски робок, скромен до болезненности. Сын бедного воронежского мещанина, растиравший в молодости краски у декоратора и учившийся в балетной школе у Дидло, Мартынов попал на драматическую сцену счастливым случаем. Согласно живописному, хоть и не во всех подробностях достоверному, рассказу он заменил экспромтом в водевиле "Филатка и Мирошка" шатавшегося по кабакам и пропустившего спектакль артиста. На спектакле присутствовал государь с семьею. Царские дети смеялись и хлопали. Это решило судьбу Мартынова.
Оглушительный и все нарастающий успех у публики не смог испортить его. Щуплый, легкий, подвижной, с редеющими белокурыми волосами и доверчивым взглядом больших серых глаз, Мартынов стал настоящим счастьем петербургских театралов. Но остался скромен оттого, что об искусстве думал высоко и всегда соглашался, что такую-то роль сыграл неудачно, что другой актер лучше него... Всю жизнь он сильно бедствовал, кормил огромную семью - детей, сестер, братьев, теток, отца с матерью - и за годовое жалованье в 609 рублей служил театру безотказно. В молодые годы, к примеру, играл в водевилях по шесть ролей в вечер: старика и юношу, волокиту и простака, с волшебной переменой не только в гриме, походке и жестах, но во всей психологии лица, - неправдоподобная сила перевоплощения!
Образованным человеком он не был, читал мало, и Островский как-то обмолвился о его "умственном безобразии". Даже "Шинели" не читал, тем более что первый его сценический наставник П. Каратыгин недолюбливал Гоголя за "низкую натуру".
- Как я мог не верить ему? - оправдывался Мартынов перед Островским. - Я соглашался с его суждениями, а на сцене инстинктивно исполнял дело Гоголя.
Дар и понимание искусства были даны "грустному комику", как говорят, свыше. Такой обаятельной естественности, свободы перевоплощения и неожиданной правды в каждом слове не знал до него никто на петербургской сцене. Он умел смешить, и его смех безотказно действовал на любого, самого угрюмого зрителя партера: смеялся в своей ложе царь и громко, навзрыд хохотала галерка. Но добивался он этого без всякой натуги и фарса: так полно жил ролью, такие верные интонации и жесты находил, что чудо случалось на сцене. Публика долго не хотела знать его в драматических ролях, к которым он стремился. Но внутренней серьезностью, то есть художественностью, владел он и в комедии. В 40-е годы комедийные роли считались легкими. Говорили: "Дураков представлять". Но даже роли бесцветной и плоской придавал он объем, психологию и особенно поражал незаметнейшей сменой ритма: смеется, смеется беззаботно, потом, с какого-то слова, смешок короче, нервнее, суше - и вот уже лицо артиста серьезно: озабоченность, печаль читаются на нем...
Когда Островский зимами из сезона в сезон стал приезжать в Александринку ставить свои пьесы, Мартынов оказался его отрадой в петербургской труппе. Далекий от интриг, которыми пропахли кулисы, всегда сам по себе - настоящий художник. Труппа Александрийского театра была испорчена пошлым премьерством, близостью двора, частой сменой репертуара, состоявшего по преимуществу из пьес-однодневок. Игралось до двадцати новых больших пьес в сезон, не считая водевилей. Актеры выбирали для бенефисов пьесы подоходнее, хотя бы пустее и глупее их трудно было представить.
Тут была иная школа игры, чем в Москве, да и весь стиль театра был иной. Голубизна бархата и позолота лож в зрительном зале, сквозняки и дурной запах в коридорах и помещениях за сценой. Имперская роскошь - и дешевизна вкуса, даже малограмотность: тридцать лет красовалась в партере на вызолоченной доске надпись - "ВХОДЪ ВМЕСТА ЗА КРЕСЛАМИ", и никто не спешил ее поправить.
Московского ансамбля тут не было и в помине. Режиссер - им был в то время неудавшийся актер, но неглупый и начитанный человек, Евгений Иванович Воронов, - приходил обычно на последние две-три репетиции - показать, где кому сидеть, из каких дверей выходить, и еще разобраться с бутафорией - кому какие нужны по ходу действия аксессуары. На репетициях без режиссера суфлировал подрабатывавший по бедности студент. "Традиций не было никаких, играли всяк за себя, по обязанности", - вспоминала актриса Шуберт.
При чехарде новых пьес приходилось учить бесконечно много текста, что было утомительно для актеров. Вечерние спектакли включали помимо четырех-пятиактной драмы один-два водевиля и кончались во втором часу ночи, а в девять утра актеру полагалось быть на репетиции. Педант Воронов штрафовал за опоздания. Но внешняя дисциплина, как это часто бывает, служила не дополнением, а возмещением дисциплины художественной. Молодых актеров держали в черном теле, "премьеры" же привыкли позволять себе всё.
Василий Васильевич Самойлов вел себя, как большой барин. Он приезжал на репетицию с огромным ньюфаундлендом, который своим рычанием наводил трепет на актрис. Если его герой по ходу спектакля завтракал, он требовал подавать себе на сцену настоящую еду - да еще чтобы куриная котлетка таяла во рту, а красное вино имитировалось легким душистым глинтвейном.

Актер яркого внешнего рисунка, тщательно выбиравший себе костюмы и грим, Самойлов наводил трепет за кулисами. Его боялись и авторы, тексты которых он вечно приспособлял к себе, вымарывал, что хотел, не брезговал отсебятиной. На сцене он старался держаться невдалеке от суфлерской будки, чтобы с пафосом и экспрессией повторить донесенные шепотом слова.
Самойлов хвалился, что умеет "оборвать", "обрезать" зависимого от него автора, и капризничал даже с Островским. Он отказался от главной роли в одной из его пьес и соглашался ее играть, если только автор сделает в ней обширные купюры. На первую репетицию он не приехал, и Островскому с режиссером пришлось послать за ним нарочного. Драматург мягко удивлялся, к чему артисту уничтожать большой монолог в его пьесе, и говорил, что, будь он актером, этот текст нисколько бы его не стеснил.
- Так, пожалуйста, сыграйте сами, а я посмотрю, - ответил Самойлов, вручая Островскому свою объемистую роль.
В душе Островский негодовал на эту наглость, но не однажды был вынужден идти навстречу требованиям премьера труппы. Вот где можно было оценить скромность и достоинство Мартынова никогда не позволявшего себе выказать неуважение к автору! Но именно Самойлов был в каком-то смысле квинтэссенцией духа старой Александринки.
Слов нет, Самойлов был одарен природой щедро. Да и помимо него на петербургской сцене было в ту пору несколько даровитых и высокопрофессиональных артистов. Тонкий, нервный Алексей Максимов - любимец петербургских гвардейцев и самого Николая I. Замечательный старик Сосницкий. Наивная и живая, с подлинной "искрой божьей" Юлия Линская, веселое дитя петербургских кулис: дурно сложена, некрасива, руки короткие, а замечательный комедийный талант.

И "полезности", вроде дельного, красивого, но холодноватого Нильского. "Фарфоровый" актер, внятно, грамотно говоривший текст, он создал тип молодого героя-резонера. Были еще и Горбунов и Левкеева, обычно хорошо игравшие вторые роли, был приятель Островского Федор Бурдин...
Но именно в Петербурге родился ненавистный Островскому термин: "выигрышная роль". Именно здесь укоренилась манера игры "на вызов".
Островский любил приводить такой пример дурного лицедейства. Актер играет лакея. Уходит со сцены и прислушивается у дверей, не будет ли вызова. Рукоплесканий не слышно. "А! Не вызывают! - говорит он. - Ну, так вызовут". Возвращается на сцену, постоял немного, посмотрел мрачно, плюнул и ушел; взрыв рукоплесканий и вызов".
Вот отчего спектакли разваливались в Александринке обычно уже к четвертому-пятому представлению, даже если поначалу были хорошо подготовлены: каждый играл только за себя и кто во что горазд. Здесь и в помине не было той художественной слаженности, что в Москве, где ко второму-третьему представлению спектакль только набирал полную силу и надолго запечатлевался в выработанной форме.
Понятно, почему Писемский сожалел, что пьесы Островского должны играться "на этой разбитой гитаре -Александринке". И все же Островский дорожил возможностью поставить здесь новую драму или комедию, терпеливо работал с актерами, а участие в спектакле гениального Мартынова выкупало для него многие попутные огорчения.
В его пьесах Мартынов играл трактирщика Маломальского и чиновника Беневоленского. (В неизданном дневнике А. В. Дружинина (ноябрь 1853 г.) находим интересный отзыв о постановке "Бедной невесты" в Александринском театре: "... несмотря на то, что актеры испорчены водевилями, приятно было смотреть. Мартынов лучше всех, хотя немного форсит и представляет Беневоленского пьяницей... Моя любимица Линская прекрасна, но ее роль не хороша, тут уже виноват сам автор. Молодые люди, особенно Марич, плохи. Вообще у актеров нет уменья вдумываться в роль и они страшно испорчены изобилием пустых пьес. Какой славный тип Машиной матери, "сырой, слабой женщины", которая все молодится, обо всем плачется, и как опошлила его Громова, актриса, по-видимому, неглупая!.. Но нельзя не порадоваться одному: при этой бедности, грязи, пренебрежении, изобилии бездарных пьес и актеры держатся, и драматические писатели есть. Это отрадно за русское искусство. Каков был бы наш театр, если б его сколько-нибудь облагородить, приголубить и очистить!" купца Коршунова и кузнеца Еремку, Тита Титыча Брускова и Тихона в "Грозе".
Хорошая роль подымает актера. У других артистов Александринского театра тоже случался успех в репертуаре Островского. Но это были чаще всего - либо минуты удачи, когда исполнитель попадал "в яблочко", либо ровно веденная, профессионально сделанная роль. Мартынов же, подобно москвичу Прову Садовскому, жил на сцене неопровержимо подлинной жизнью, озаренной волшебными софитами искусства.
Верный старым привязанностям, Островский всю жизнь продружил с Федором Бурдиным.

Но эта дружба не была согрета восхищением перед талантом артиста и тем сильно разнилась от отношений Островского с Мартыновым. Бурдин, правда, составил за кулисами "партию Островского", умело интриговал в его пользу, знал, как обходиться с начальством и обходить его, и вообще обладал замечательным практическим умом, в отличие от Мартынова, который даже свои интересы в театре соблюсти не умел. Бурдин устраивал обеды с нужными людьми, добивался аудиенций, был вхож к сановникам. Он сумел подсунуть министру двора графу Адлербергу рукопись пьесы "Свои люди - сочтемся!" в тот самый момент, когда тот собирался в путешествие с государем в Варшаву, и - диво - получил с дороги благоприятный ответ и роль Большова к бенефису. Ну как было не ценить заслуги такого человека! Да и в общении он был приятен - фанфарон отчасти, но живой рассказчик, хлебосол.
Островский знал, конечно, потолок Бурдина как актера. Критика всегда писала о нем так, что самой большой похвалой для него было, что он провел свою роль "отчетливо". В иных случаях говорили резче. Салтыков-Щедрин посмеивался над артистом, который любое чувство может выразить с помощью нижней губы и указательного пальца. Аполлон Григорьев сделал нарицательным словечко "бурдинизм" как обозначение банальной игры. Хорошо ведая о его дружбе с Островским и об услугах, какие он оказывал драматургу, Григорьев пояснял, что нельзя "больше уважать г. Бурдина, как человека, страстно и бескорыстно любящего сценическое искусство, - и нельзя быть более убежденным в абсолютном отсутствии в нем таланта лицедея...".
Беда была еще в том, что, в отличие от скромнейшего Мартынова, Бурдин был всегда уверен в себе, и на его округлой с чуть подкрученными усами физиономии умного приказчика вечно сияло сознание своей незаурядности. Рассказывали, что, будучи в Париже, он навестил могилу великого француза Тальма и возложил на нее венок с надписью: "ТАЛЬМА - ТЕОДОР БУРДИН". После этого его иначе, как Теодор, за кулисами не звали, а сатирик Курочкин сочинил об Александрийской труппе озорные куплеты с припевом:
Есть у нас один
Теодор Бурдин
Островский терпеливо выслушивал сетования Бурдина, что критики не понимают его, и с трудом отбивался от просьб вступиться за замечательного истолкователя его творчества. Смущенный нескромной настойчивостью своего приятеля, драматург советовал ему расстаться с желанием "спать на розах". Бурдин обижался. Но в новой роли или в пьесе для бенефиса Островский не умел ему отказать. Его приятель умолял, требовал, горячился, плакал и в результате брал роль с бою. "Бурдин меня измучил, - писал, возроптав на него однажды, смиренный автор, - он хочет нахрапом вырвать главную роль. Вчера ушел от нас в бешенстве, воротился с лестницы и закричал, что не берет мою пьесу в бенефис". "Я... с ним голову потерял", - жаловался он в другом письме. В конце концов дело кончалось обычно миром, Бурдин получал, что желал, и Островскому оставалось одно: страдать от того, что Бурдин "переигрывает", и тщетно взывать к нему в письмах: "Оставь ты свою сентиментальность, брось бабью расплываемостъ..." На укоры других артистов, что его друг опять погубил роль в его пьесе, Островский отвечал, растерянно поглаживая бороду:
- Я думал, Федя будет хорош, а он слабее, чем я ожидал... а не дать роли нельзя было... Федя так близко к сердцу мои интересы принимает!
Ряды теоретиков искусства часто пополняются плохими его практиками. На склоне дней самолюбивый Бурдин сочинил для начинающих артистов "Краткую азбуку драматического искусства", но Островский скептически отнесся к этому труду. Уклонившись от ответа на вопрос, может ли он, Бурдин, стать "наставником драматического искусства", Островский объяснял ему, что, на его взгляд, "драматическое искусство, как наука, не существует".
Мартынов, пожалуй, даже самой краткой азбуки искусства сочинить бы не мог. Но с первого его жеста, с первого слова, произнесенного им на сцене, - всё в зале к нему поворачивалось и только на него смотрело. Другие актеры могли отыгрывать свои реплики, двигаться по подмосткам, но если в это время на сцене был Мартынов, зрители следили глазами за ним, хотя бы он лишь молча слушал партнера, и беспричинно счастливо улыбались ему.
Влюбленность Островского в его талант была не просто данью признательного автора. Нет выше счастья художнику, чем понимание его замысла. Но здесь бывала такая полнота понимания, которая шла порой дальше эскизно намеченного ролью: то полное преображение в плоть, в каком завершается и увенчивается создание драматурга. Островский дарил ролью актера - актер отдаривал его пониманием роли.
Этот худощавый, тщедушный человек вызывал в авторе чувство художественного восторга, восхищенного сродства: его не надо было учить - у него впору учиться. Мартынов завоевал у Островского горячую симпатию и всей своей личностью: не гордый гений, а застенчивый, цены себе не знающий художник, вечно худо устроенный и бедствующий, - великое дитя природы.
Весной 1860 года Мартынов собирался на долгие гастроли в Москву, а потом на юг. Островский вызвался сопровождать его в этом путешествии до Одессы.
Юг Мартынов выбрал потому, что в сыром петербургском климате у него стала быстро развиваться чахотка. Просто поехать лечиться солнцем и виноградом он не мог себе позволить: надо было кормить детей, семью. Летние гастроли в провинции давали возможность заработка.
Перед поездкой он еще питал надежды на поправку. Сам составил маршрут гастролей. Но кашель и зловещий румянец выдавали его состояние. Он жаловался на усталость, на то, что забывает на сцене текст и вынужден импровизировать. Прежде этого с ним не случалось.
Прощальный спектакль "Грозы" в Петербурге прошел триумфально. Но, уходя со сцены, Мартынов чуть не падал от утомления: легких у него почти не было. И все же он с огромным успехом сыграл несколько спектаклей в Москве. А потом, в экипаже Островского, переменяя на почтовых станциях лошадей, они тронулись вдвоем на юг.
Решение Островского ехать с Мартыновым подтолкнули, возможно, личные причины: усталость после трудного зимнего сезона, запутанные отношения с Косицкой. Но прежде всего его подвигло на это чувство дружбы, душевного обязательства по отношению к товарищу-артисту.
Путешествие лечит, и оттого письма Островского с дороги такие бодрые, живые. "За Тулой начинается чернозем... очень странно видеть поля и дорогу, точно облитые чернилами... Веселый ямщик, Матвей Семенович Разоренный, водку называл гарью, шкалик - коробочкой... В самом Воронеже мы были поражены роскошною зеленью кленов и пирамидальными тополями... Воронеж нам очень понравился, такого миленького, чистенького города я не видывал!.. Долго я буду помнить о Воронеже!" А дальше на юг - "деревни и села... тонут в густых садах, хаты и самые бедные хатки тщательно выбелены... Что за народ хохлы! Просто прелесть! Я с каждым ямщиком пускался в разговоры... далее пойдут новороссийские степи, аисты, ковыль, трава..."
В Воронеже, не отдохнув с дороги, Мартынов сыграл подряд три спектакля. Успех был оглушительный, губернатор, оказавшийся местным меценатом и поклонником пьес Островского, принимал их по-царски. Иван Кулебакин, когда-то "оглашенный" москвитянинского кружка, потом капитан волжского парохода, посадивший его на мель и с горя подавшийся в актеры, чествовал их у себя дома с театральной братией. Островский весело говорил с актерами, крепко обнимал старых друзей и легко заводил новых, расспрашивал об их житье-бытье, утешал обиженных, обещал помочь {Актриса Л. Е. Быстрова (Розанова) писала Островскому 6 апреля 1871 года: "10 лет тому назад вы приезжали с покойным А.Е. Мартыновым, вечная память, и познакомились у вашего друга, тоже покойного в настоящее время, это Кулебякин, вы встретили там только что начинающую актрису Розанову. И вы тогда мне сделали доброе дело, порекомендовали в Харьков, и в Харькове я уже получила фамилию Быстрова; с тех пор я постоянно играю и довольно удачно, и, могу сказать, считаюсь порядочной актрисой, и преимущественно играю в ваших пьесах..."
Эту Розанову Островский упоминает в письме друзьям из Одессы, говоря, что в Воронеже познакомился, между другими лицами, "с Розановой (совсем красавица)". Существует предположение, что ее судьба отразилась в "Талантах и поклонниках". В последний день актеры проводили их до заставы и простились шампанским.
И вот - после душного, пыльного пути из дали ковыльной степи открылся белокаменный город, потонувший в акациях. Освежающий бриз подул под вечер с розово-фиолетового морского залива. Островский с Мартыновым поселились в гостинице "Донати", на бульваре, рядом с памятником Ришелье и одесской лестницей. Островский чувствовал себя прекрасно, каждый день купался в море и скоро так разохотился, что однажды переплыл порт, чем всегда потом гордился.
Вечерами, если не было спектакля, можно было погулять по городу: жара спадала, у памятника Ришелье, чуть подсвеченного лампами, начинал играть духовой оркестр, по бульвару степенно двигались дамы в шалях, мужчины с сигарами во рту, старые греки в красных фесках и с четками в руках, матросы всех наций. Ярко освещены окна и двери ресторанов, где подают свежезажаренную скумбрию или кефаль и легкое, сухое вино. Мелькают греческие и французские вывески, звучит итальянская речь...
Одесса показалась Островскому каким-то диковинным городом, каких он не видал в России, легкомысленным и веселым. И принимали их прекрасно. Одесский театр - просторный, с ложами, отделанными бронзой и инкрустацией из мелких зеркал,- каждый вечер был переполнен. Места продавали даже в оркестре, богатые семьи чередовались ложами. Темпераментная южная публика давала немедленный выход чувствам: шумели в антрактах, перекликались через соседей, громко обсуждали игру Мартынова. Московского гостя завалили подарками, засыпали похвалами. Моряки дали Островскому и Мартынову обед прямо на море, на пароходе "Эльбрус", артисты и литераторы принимали их в загородном ресторане "Флора".
Да, все было бы хорошо, если б не болезнь Мартынова. Вечерами он играл (за месяц им было сыграно десять спектаклей) или отбывал время на дружеских приемах, а днем лежал пластом в гостинице, изнемогая от чудовищной жары. "Одесса в июне - это печь: сорокаградусные жары, ни одной капли дождя, адская пыль - все это едва переносимо для здорового, а для больного чахоткой убийственно", - писал Островский.
Мартынов играл в Одессе по преимуществу водевильный репертуар. "Грозу" не удалось здесь исполнить, наверное, потому, что у генерал-губернатора А.Г. Строганова было свое понятие об этой пьесе. Известны его слова в ответ на ходатайство театра о драме Островского: "Не взирая на цензуру III Отд., не дозволить представление "Грозы" не токмо не благопристойной, но даже похабной".
В Петербурге к тому времени драма Островского была увенчана Уваровской академической премией, на спектакле побывал и не выразил неудовольствия царь Александр II, но разве то Строганову указ? Провинциальные помпадуры бывали опасливее и жесточе столичных. Так или иначе, Мартынову не дали сыграть его коронную драматическую роль, сославшись на нехватку сил для такой пьесы в местной труппе.
Водевили же шли с триумфом. И лишь те, кто видел Мартынова за кулисами, понимали, чего ему это стоило. Страшно было смотреть, вспоминает очевидец, как он, сидя позади декораций в ожидании выхода на сцену, тяжело, прерывисто дышал и, закашлявшись, отхаркивал кровь в запасной платок. А выбегал на сцену - стройный, изящный, веселый, и никто в публике не мог заподозрить, что их смешит смертельно больной артист; ему оставалось жить считанные дни.
В пустой пьесе "Кащей" герой по ходу действия умирает от какой-то болезни, вроде чахотки, и Островскому, смотревшему спектакль из ложи, на миг показалось, что Мартынов вот-вот скончается тут же, прямо на сцене. Он уговаривал друга отдохнуть или вовсе оставить Одессу. Мартынов отвечал, что связан словом, что не может показаться домой, не приобретя денег, на которые рассчитывал, и к тому же вконец растратив здоровье. Что скажут жена, дети, увидев его таким? Временами же на него находила хандра, и он соглашался, что глупо было ездить в Одессу, что за это не две тысячи, а двадцать тысяч мало. И, вспоминая сырой, холодный Петербург, перебирал в памяти все перенесенные им обиды. С негодованием поминал театральных чиновников, к которым никогда не умел подслужиться. За то и держали его на скудном заработке да еще распускали слухи, что он пьяный выходит на сцену. Как тяжко было дослуживать положенные до пенсии двадцать пять лет!
"Не труд расстроил мое здоровье, а попирание моего человеческого достоинства. Ведь эти теперешние чиновники при театре - просто нашествие татар", - горько повторял Мартынов.
В эти дни Островскому много случалось говорить с ним в пути, в номере гостиницы и на прогулке о положении русского артиста, о репертуаре. Речи их были невеселы: они горячо, с жаром убеждали друг друга в том, в чем каждый из них и без того был уверен. Все давно переговорено, очевидно до омерзения. Но делать-то что, что делать? Может быть, уйти из театра? Но куда? А может, написать "записку" или доклад царю, убедить его в необходимости реформировать императорскую сцену? Неизбежность борьбы за новый театр, может быть, впервые забрезжит перед ним в этих разговорах с умирающим Мартыновым.
Они еще ездили на две недели в Крым, пытаясь поправить здоровье больного ялтинским воздухом и кумысом. Но было поздно. "Таврида обманула ожидания", - записал в дневнике Островский. Вернувшись в Одессу, Мартынов едва спустился с парохода по сходням. И тут же стал собираться домой.
На обратном пути остановились в Харькове в дешевых номерах гостиницы "Синоп". Мартынов слег и больше уже не подымался. Островский метался по городу, ища знакомых, которые могли бы помочь ему, собирал консилиум врачей. На улице он встретил драматурга Турбина, полковника генерального штаба и страстного любителя театра, ставившего теперь в Харькове свою комедию. Турбин уже знал откуда-то о случившейся беде. "Как? Что?" - "Плохо!.. Едва ли доедет!" - вот были первые слова, которыми они обменялись при встрече. Войдя в номер, где лежал Мартынов, Турбин ужаснулся, хотя и прежде знал артиста бледным и тощим. Лицо его было как серая бумага. "Это рука скелета!" - сказал сам о себе Мартынов, и приподнятая им над одеялом кисть упала бессильно.
Содержатель харьковского театра верткий, лысенький Иван Александрович Щербина помог пригласить лучших врачей. Но ничто не могло уже его спасти. Мартынов угасал. Как все чахоточные больные, он до последней минуты не сознавал своего положения, беспокоился о доме, о семье и торопил Островского с отъездом, говоря: "Мне теперь гораздо лучше... мне было нужно отдохнуть... мне не следовало играть". Чтобы успокоить его, наняли почтовую карету и уже определили день отъезда. Но ехать он не смог. Последние силы покидали его.
- Доживу до весны, на год, не менее, опять уеду в Италию и прямо во Флоренцию, - говорил он, тоскливо оглядываясь и не имея сил откашлять мокроты, - там опять за роли! А Александр Николаевич нам новую пьесу, вроде "Грозы", напишет к тому времени. Островский сидел рядом с его постелью без сюртука, с расстегнутым воротом рубахи, держал своей рукой его руку, глядел на Мартынова синими, жалостливыми глазами и силился не расплакаться, кивая на его слова.
"Тяжелый крест выпал на мою долю! - писал в эти дни в петербургскую дирекцию Островский. - Мысль - кого мы теряем! не дает мне опомниться. Я очень мнителен... Я боюсь сам захворать, что тогда будет! Я один только при нем из близких ему".
Вечером 16 августа 1860 года харьковский театр, как обычно в пору ярмарки, был полон и шумел в антракте веселым гулом голосов. В директорскую ложу вошел бледный, с трясущимися губами Островский и сказал на ухо Щербине: "Вообразите, какое несчастье! Его уже больше нет!" Щербина не понял: "Кого?" - "Мартынов умер". Известие мгновенно облетело театр. Артисты еле доиграли спектакль. По смерти у Мартынова нашли 75 рублей серебром, едва на дорогу хватило бы.
Все, что было потом, Островский видел, как во сне. Отпевание в Харькове, возвращение в Москву, встреча тела у заставы, литургия в Даниловом монастыре, совершенная по настоянию Островского в церкви, где некогда была панихида по Гоголю, проводы большого черного гроба через весь город пешком до Николаевского вокзала...
В Петербург Островский не поехал - силы были на исходе. "Горе, любезнейший Иван Иванович, большое горе - нашего Мартынова не стало, - писал он в те дни Панаеву... - Без страдания, угасая день за днем, он скончался, как ребенок, не сознавая даже своего положения... С Мартыновым я потерял всё на петербургской сцене".
И правда. Хотя что, казалось бы, так скорбеть? Остались на Александрийской сцене Линская, Левкеева, Горбунов. Ждал его в Питере и любезный друг Федор Бурдин, хлопотавший о его пьесах, одалживавший деньги и всегда готовый принять его по-царски, а в обмен получавший от него из Москвы провесную ветчину и непременно рольку в очередной пьесе. Но такого близкого человека и родного по духу художника больше у него там не было. Потрясенный этой потерей, Островский много раз пересказывал друзьям последние минуты Мартынова:
"В 5 часов он еще принял лекарство, в 6-ть уже не принимал; я спросил у него: "Не зажечь ли огня?" Он тихо проговорил: "Зажгите!" - и это были последние его слова".
Люди склонны придавать последним словам ушедших какое-то крупное, почти мистическое значение. Вот почему, наверное, известный московский критик А.Н. Баженов откликнулся в своей некрологической заметке на рассказ о последних минутах Мартынова, слышанный им от Островского, и истолковал его символически:
"Мысль об обновлении репертуара была, по-видимому, любимою мыслью его; ею, кажется, он был занят и перед смертию, потому что последнее слово его "зажгите!" (обращенное к одному из корифеев нашей драматической литературы) было сказано им едва ли случайно и относилось не к одной только свече..."
Кто знает, быть может, Баженов был прав?
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 15.01.2015, 20:23 | Сообщение # 32 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 291
Статус: Offline
| НА БЕРЕГАХ ЯУЗЫ И ТЕМЗЫ
Давно ждало этого дня русское общество, русская литература. Манифест от 19 февраля 1861 года, провозглашавший освобождение крестьян от "крепости", был объявлен в обеих столицах в воскресный солнечный день 6 марта.
"Великий день: манифест о свободе крестьян, - записал в своем дневнике Никитенко. - Мне принесли его около полудня... Я прочел его вслух жене моей, детям и одной нашей приятельнице в кабинете перед портретом Александра II..."
Не все, конечно, были так верноподданно умилены, как профессор-цензор, но кто не ощутил тогда значение этого дня? Власти опасались волнений. С утра в Петербурге по Невскому и Морской разъезжали жандармские патрули. Люди собирались кучками, читали манифест вслух, обнимались, плакали... Решительные умы были разочарованы половинчатостью "воли". Возбуждение царило и в Москве. В либеральных гостиных поругивали витиевато-семинарский штиль манифеста, составленного митрополитом Филаретом, но слова "свобода", "указ о вольности" не сходили с уст. Недобро молчали лишь старики в лентах, собиравшиеся за картами в дальних комнатах Английского клуба.
Горбунов изображал в лицах, как один из московских "монстров" сидит, засыпая, в своем кресле, прикрыв глаза морщинистой рукой, в то время как кто-то из добровольцев читает в клубной гостиной манифест, и вдруг в напряженной тишине из его угла: - Тьфу!
В тех же днях Щепкин устроил торжественный обед с шампанским. В рот не бравший капли вина, он дал когда-то зарок, что в день освобождения крестьян созовет друзей и сам пьян напьется. Бывший крепостной плакал от счастья, а его друг - вечный юноша Кетчер - зычно возглашал с бокалом в руках, что сбылась мечта их молодости, и, не таясь, поминал имена Герцена и Огарева.
Мы не знаем, как провел этот день автор "Грозы", но не сомневаемся, что и он пережил его как событие. Настоящим помещиком Островский никогда не был, и все же досталась ему, вкупе с двумя братьями, по разделу отцовского наследства деревенька в Солигаличском уезде с тридцатью душами крестьян - по десять крепостных душ на брата. В его архиве сохранилось письмо, написанное 28 мая 1858 года из села Богоявления: "Александру Николаевичу от верно подданного вашего христианина Потапа Павлова". Потап, по всей видимости, деревенский староста, сообщал ему: "Извините нас, батюшка, что мы продолжительное время не посылали, потому было много нездоровых, которые померши, и всех выключили. Еще осмеливаюсь доложить: Андриан Леонтив хотел в Москву, да теперя нездоров, оброк вашей милости пошлет непременно. Затем прощайте, батюшка".
Из письма видно, что деревенька была вымирающая, "плюшкинская", оброк, как почти повсеместно уже в эти годы, платился от случая к случаю и заметным житейским подспорьем служить не мог. А в нравственном смысле положение "владельца душ" было Островскому в тягость: в одной из пьес у него будет сказано - "уж и как эта крепость людей уродует".
В год освобождения крестьян Островский закончил две пьесы: маленькую комедию "За чем пойдешь, то и найдешь", где наконец женил своего героя - Мишу Бальзаминова и тем завершил трилогию о нем; и плод шестилетнего труда - историческую драму к стихах "Козьма Захарьич Минин-Сухорук". Две вещи - полярные по жанру, стилю и задачам. Казалось бы, какое отношение имеют они к тому, чем живет и дышит общество? Но связи искусства с временем не банальны, не односложны. Глупенький писарек, завитой по моде сластена и щеголь Миша Бальзаминов, мечтает о невесте с "миллионом", о собственном выезде и пуще всего о голубом плаще на бархатной подкладке. Есть в нем самом и во всем, что его окружает, та квинтэссенция замоскворецкого быта, застойная неподвижность, которую никакими реформами не прошибешь.
"Праву знаешь?" - грозно спрашивает сваха Красавина. И это, пожалуй, все, чем отозвались в Замоскворечье реформаторские веяния 60-х годов. Да разве еще Капочка и Ничкина (в первой пьесе трилогии - "Праздничный сон до обеда") затеют спор на тему эмансипации.
Островский весело пишет свой русский водевиль, буквально купается в этом языке, экивоках, манерах, подходцах. Кухарка Матрена стала Мишу завивать и прижгла ему щипцами ухо. А тут сваха Красавина явилась: ходит из дому в дом, выпивает, где поднесут, хоть бы и "ладиколои", и расхваливает свой товар: "телом сахар, из себя солидна, во всей полноте; как одевается, две девки насилу застегнут..." Миша заранее подсчитывает, на сколько лет хватит ему жениного приданого, и идет на воздух, чтобы ветром обдуло, "а то много мыслей в голове об жизни..." И так вьются в кольцо - сцена за сценой, одна смешнее другой. Тут и чудесные разговоры барышень, ведущих учтивую беседу: "Что вам лучше нравится, зима или лето?" и "Что лучше - мужчина или женщина?" И диковинные сны с толкованиями - настоящее художество Замоскворечья. И словечки, удостоверяющие тонкую образованность: "антриган" и "антиресан", "проминаж" и "асаже"... И, наконец, чудесные мечты Миши, в которых он все и вся в минуту одолевает. Он обещает Раисе увезти ее и думает при этом: "вдруг сама собою явится коляска..." Гениальный штрих? Капитан Чебаков в самом деле увозит сестру Раисы, а Миша очень по-русски все мечтает, что счастье само свалится ему на голову...
Недаром Достоевскому так понравилась эта вещь. В июне 1861 года он был в гостях у Островского в николо-воробьинском доме. Их уже знакомили прежде, в Петербурге, в одном из литературных собраний, но теперь они впервые встретились не на людях, не в праздной толчее. Аполлон Григорьев, последнее время сблизившийся с Достоевским, был для них связующей нитью. Достоевский считался с мнением Григорьева, знал, что он верует в Островского "как в путеводную звезду", и, пользуясь его рекомендациями, просил теперь у драматурга что-нибудь для своего журнала "Время". Островский обещал и не обманул. Комедия "За чем пойдешь, то и найдешь, или Женитьба Бальзаминова" была им вскоре послана в Петербург. Достоевский читал ее вслух по рукописи брату и нескольким литературным знакомым, и "все хохотали так, что заболели бока". Еще прежде чем комедия была напечатана в журнале братьев Достоевских "Время", Федор Михайлович послал восторженное благодарственное письмо автору:
"Уголок Москвы, на который Вы взглянули, передан так типично, как будто сам сидел и разговаривал с Белотеловой. Вообще эта Белотелова, девица, сваха, маменька и, наконец, сам герой,- это до того живо и действительно, до того целая картина, что теперь, кажется, она у меня ввек не потухнет в уме... Из всех Ваших свах Красавина должна была занять первое место. Я ее видал тысячу раз, я с ней был знаком, она ходила к нам в дом, когда я жил в Москве лет десяти от роду; я ее помню..." (24 августа 1861 г.)
Быт "Бальзаминова" смешон, жалок, страшен и мил, да и сам незадачливый жених Миша смешон... и несчастлив. Островский признает законность интересов ничтожных, будничных людей, их бедных грез, забот, занятий, предрассудков. В его улыбке нет раздражения и надсады. Но временами эта стихия мещанской полукультуры начинает придавливать тяжелой, гнетущей массой. После 19 февраля 1861 года хотелось думать: скоро вся жизнь пойдет иначе, устроится честно, разумно. Но если толща этого быта непробиваема для разума и культуры, не потонут ли в ней все благие порыванья и надежды на перемены? А что как бальзаминовская мечтательность, мягкотелость, вечная надежда на "авось" вообще в характере русского человека? Невеселые, обидные вопросы и сомнения.
О народе, национальном характере, каким складывался и проявлялся он в истории, раздумывает Островский и над страницами рукописи "Минина". Он печатает свою драму в "Современнике", и оттого все читают ее под особым углом зрения, ожидая найти в пьесе "бунтующую земщину". Давний недоброжелатель Н.Ф. Щербина, сокрывшись под псевдонимом Омега, язвит в "Библиотеке для чтения", что Минин выглядит у Островского "какой-то смесью Русакова с Жанной д'Арк и даже иногда кажет себя человеком, начитавшимся современного нам поэта Н. А. Некрасова". На самом деле, радикальной тенденциозности на современный лад не было в "Минине" и следа: просто Островский хотел, сверяясь с историей и поэтическим чутьем, показать человека совести и внутреннего долга, способного в тяжелую минуту поднять народ на подвиг. Не напрасно, конечно, герой этот купец - пусть не думают, что "почвенное" сословие родит одних самодуров. Не зря и подвиг его состоит в том, чтобы без всякой рисовки расстаться с накопленным добром и других убедить пожертвовать деньгами и имуществом ради спасения России. Вот урок нынешнему сословию купцов, всем толстопузым Кит Китычам!
Подвиг Минина был в те годы свежей темой. Знали о нем мало. Лишь в 1851 году, просматривая какую-то старую купчую, Погодин установил его отчество - "Захарьич". Островский сам годами собирал материал, дорожа тем, что получает его из первых рук. Сохранились его выписки из "Летописи о многих, мятежах", из "Иного сказания о самозванцах", из рукописной летописи, из "Актов археографической экспедиции" и т. д.
Начиная эту работу в 1856 году, он не рассчитывал, что исторический жанр войдет в моду в 60-е годы и в романистике, и в живописи, и в оперном искусстве. О народе, его роли в истории, о национальном самосознании в 60-е годы думали все. Споры вокруг крестьянской реформы подстегнули этот интерес. В "Минине" Островский изображал народ то как стадо, пассивную, инертную толпу ("Учи нас, вразумляй, Кузьма Захарьич..."), то пробудившимся, способным на сплочение и порыв в минуту опасности, то вновь поддавшимся смуте и отхлынувшим волною. Народ, тянущий Россию будто бурлацкой бечевой, велик, беден и несчастлив. Не стоит обольщаться его способностью отстаивать себя, но не надо думать, что он вовсе неспособен подняться. Островский знает: в народном море есть все - и великие души и всякая мелкая нечисть, но залог его спасения в тем, что он может рождать такие фигуры, как Минин.
Этот род раздумий не оставлял нашего драматурга и во время затеянного им весной 1862 года путешествия за границу: вот где был простор посмотреть да посравнить свое и чужое. Так ли уж нравы были они, когда в молодые годы вместе с Аполлоном Григорьевым и другими юношами из "Москвитянина" заранее, наугад гордились тем, что мы "не чета Европе старой...".
К началу 60-х годов глухо запертые на Запад двери распахнулись. Выездной пасс с прежней фантастической цены в пятьсот рублей был снижен до пяти, и толпы русских, подхваченные либеральным ветром, хлынули за рубеж. После долгих лет пребывания за частоколом николаевского острога русский человек ехал в Европу. Что искал он в ней, что находил?
Ехали в свадебные путешествия, partie de plaisir, насладиться видами Италии и Швейцарии, музеями и театрами Парижа, европейским комфортом. Ехали довершить свое образование дворянские недоросли. Ехали лечиться на водах и на курортах Лазурного берега бледные барышни с гувернантками. Ехали развлечься, покутить, сыграть на маленькой на рулетке дворяне средней руки, молодые купчики, все те, кого Щедрин едко окрестил "русские гулящие люди за границей"; эти сразу искали местечки повеселее и из всех форм европейской жизни легко осваивали одну - "искусство, не обдирая рта, есть артишоки и глотать устрицы, не проглатывая в то же время раковин".
Ехали в Европу и писатели, чтобы не со слов старого парижанина Тургенева, а самим взглянуть, что это за край такой, которым бедной России вечно глаза колят и из которого к нам залетают модные жилеты, философские соблазны и революции.
В 1857-1858 и в 1860-1861 годах совершает свои путешествия по Западной Европе Лев Толстой; навсегда получает отвращение к буржуазному духу, изумляется черствости респектабельных господ в отеле, пугается жестокости гильотины. Но почерпывает много нового в свободной системе педагогического воспитания, которую пытается по-своему применить в яснополянской школе.
Достоевский отправляется за границу летом 1862 года, и результат этой поездки - "Зимние заметки о летних впечатлениях", черновой эскиз будущего взгляда писателя на судьбы России и Европы. Ему надо было побывать в Лондоне, своими глазами увидеть знаменитую чугунку, грохочущую на опорах поверх домов, газовые светильники, человеческий муравейник на улицах Сити, маленькую проститутку, выпрашивающую подаяние, и диковину века - Хрустальный дворец, чтобы он "про пашу русскую Европу раздумался", про будущее своей страны, которую не желал бы видеть подобием этого европейского дива.
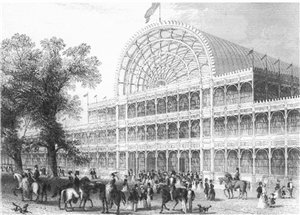
В те же месяцы и наш герой пересекает границу, чтобы глотнуть европейского воздуха. Никакой предвзятой программы он себе не ставит, никакого любимого предрассудка не лелеет: просто желает новых картин, свежих впечатлений, отдыха душе. Он не выдвигает перед собою "вопросов", но они потекут за ним непроизвольно. Островский смолоду не любил путешествовать один: ему нужна была компания. В Петербурге он сманил с собою Макара Федосеевича Шишко, добродушного белоруса, химика, пиротехника. "Макарий" обладал забытым даром елизаветинской эпохи - устраивать фейерверки и неизменно приглашался для коронационных иллюминаций во дворец. В театре он заведовал "эффектами" и освещением, но, главное, был человек легкий, покладистый, к тому же хорошо знал иностранные языки. Их веселую компанию должен был еще украсить Иван Федорович Горбунов. Но он завозился с паспортом, и ждали, что он присоединится по дороге.
Первое впечатление от Пруссии, еще из окон вагона - непривычная глазу картина аккуратно возделанных полей: "Поля кой-где зеленеют, пахано загонами; местность ровная, большею частью песчаная. Поля возделаны превосходно, унавожены сплошь, деревни все каменные и выстроены чисто, на всем довольство. Боже мой! Когда-то мы этого дождемся!"
Вспоминались Потапы из села Богоявления, крытые почерневшей соломой избы. Немецкая "машина" шла ходко, вагоны удобные, без тряски. К обеду приехали в Кенигсберг, а на другое утро были в Берлине.
На третий день в Берлине появился Горбунов - вот с кем никогда не было скучно! Островский улыбался, завидев его, еще издали. Шишко и Горбунов конкурировали теперь в анекдотах, поддразнивании, веселых рассказах в лицах. Подшучивали над тем, что видели необычного, воображали, каково было бы перенести местные правы на замоскворецкую почву, не щадили ради красного словца ни себя, ни друг друга. Со своими спутниками Островский проехал по железной дороге почти десять тысяч верст, а еще плыл и пароходом по Средиземному морю, пересекал Альпы в дилижансе и через Ла-Манш переправлялся паромом.
Выехали из России в раннем апреле, в Вильно цветы еле пробивались из-под снега, и чудом казались собранные на протаявшем склоне горы анемоны. Но чем дольше они путешествовали, тем становилось теплее и зеленее, да и путь их лежал на юг: на Рейне цвели большими белыми свечами каштаны, в Италии уже поспевала пшеница и рожь, в окнах фаэтона мелькали алые поля мака и голубые васильки, а на перевале в Альпах мальчишка-савояр принес Островскому букетик синих, пахучих анютиных глазок. Где только не побывали они, чего не нагляделись за эти два весенних месяца!
Вот он, наш замоскворецкий житель, одетый в модный, по московским понятиям, костюм, тщательно отутюженный Агафьей Ивановной, ходит улицами Рима, вот плывет по каналу в венецианской гондоле."Что за молодцы гондольеры!" - вырывается у него. Вот сидит в Генуе под пальмой на мраморной скамейке, окружающей ее ствол, и завтракает устрицами. Вот взбирается в горы на ослах, качается на палубе парохода, плывущего в Ливорно, благоговейно замирает перед "Моисеем" Микеланджело, поднимается в гигантский купол собора святого Петра и стоит, задрав голову, перед химерами Нотр-Дам. Да надо ли ему все это? Оставит ли в нем какой-то след этот калейдоскоп впечатлений? Традиция, идущая едва ль не от Гёте, - паломничество к святым местам европейской культуры. Для поэта, художника - это как путешествие мусульманина в Мекку. Но есть натуры, которым важны сильные внешние впечатления, писатели-агрессоры, покоряющие новые земли и приобщающие их к своей поэтической державе. И есть другие. По внешности они ничем не одолжаются в чужих краях, и творчеству их не ожидается от созерцания заморских чудес никакого приплода. Можно подумать, что путешествие по Европе пропащее для них время: отдохновение, рассеяние. Это не так. Для сосредоточенного художника все и всегда способ всасывания своего материала - в похожести, контрасте, внезапно раздвинувшемся горизонте взгляда, - подспорье своей кровной теме. Так, перед Венерой Милосской в одном из залов Лувра вдруг осветилась Глебу Успенскому вся жизнь учителя Тяпушкина. И Островскому многое заново стало внятно в эти недели.
Не будет парадоксом сказать: он ездил по Европе, но там искал понимания Замоскворечья. Он изучал Гольдони и Шекспира, чтобы остаться русским драматургом. Глаза его устроены так, что он то и дело сравнивает, не может не сравнивать то, что видит, с тем, что оставил дома, и даже как будто радуется, когда находит хотя бы внешнее сходство, возможность прикинуть на наш аршин.
Большой дворец в Берлине - "вроде нашего Зимнего"; музей - "хуже нашего Эрмитажа"; во Франкфурте в бедняцком квартале проехали "узенькой улицей, вроде Щербаковского переулка"; Рейн у Мангейма - "равен Волге под Ярославлем"; на пасху немецкие мальчишки "бьются крашеными яйцами, так же, как и у нас"; гусары одеты - "точно наши ряженые"; природа под Лейпцигом - "кабы не тополи, совсем наша Владимирская губерния"; "в деревнях женщины совершенно русские, и такие же лавы через речку, как у нас"; в Италии за Пизой по болоту соснячок - "похож на наш русский"; во Флоренции вечером на улице, под окнами отеля, итальянцы поют песню, очень похожую на нашу: "Любит, любит", только запев какой-то странный" и т.д. и т п.
Островский лишен пошлой патриотической гордости, но так многое поражает его в Европе, что с тайным юмором он отметит все, что покажется там хуже или "совсем как у нас". Чай дают, к примеру, прескверный ("Если наш самый дурной чай да посолить, то будет очень похоже"); в какой-то итальянской траттории встретил пропойцу - как две капли воды гостинодворского "метеора", и, конечно же, усмехнувшись, это записал. На одной из железнодорожных станций в Италии имел случай убедиться, что взятки "отлично действуют по всей Европе", - автор "Доходного места" поймал себя, кажется, на легком злорадстве. Но вообще-то в нем не было и тени чванства, напряженного отталкивания от всего, что не свое. Мелочность "буржуази", европейского мещанства ему не по душе. Но уровень культуры, комфорта, целесообразности, аккуратности, столь разительно не сходных с отсталостью, распущенностью, грязью и ленью недавной крепостной России, оценен им по заслугам. Европа, несмотря на все собственные беды и слабости, жила в ином историческом времени.
Когда спустя годы в Париже была поставлена "Гроза", критики писали, что французская публика плохо поняла эту драму, так как она казалась ей произведением не современным, а историческим и имела аналогию разве что с XIV веком во Франции. Этот разрыв во времени ощутил и Салтыков-Щедрин, чуть позднее Островского побывавший в Европе. По свидетельству Боборыкина, он говорил: "Я - писатель семнадцатого века на их аршин".
Из обидного факта русской отсталости сооружали, бывало, гордое знамя самобытности, обращая нужду в добродетель. Но Островский обладает слишком справедливым и спокойным умом, чтобы что-то насиловать в своих впечатлениях. Честно и простодушно восхищается он чистотой улиц, удобством транспорта, дешевизной ресторанов.
Вспоминалась Москва: трава сквозь булыжник, доски, брошенные через лужи, будки с заборами и огородиками при них, лавчонки в подвалах, откуда торгуют прямо через окна, объясняясь с согнувшимся в пояс покупателем, московские "ваньки" и "гитары", в которых приходится сидеть верхом на перекладине, держась за кушак кучера, масляные фонари, что но вечерам развозят на тележках и цепляют на грязные столбы фонарщики...
"Омнибусы - просто роскошь, - извещает он из Берлина московских друзей, - в них помещается 10 человек, а плата 3 кон. сер. в конец, хотя бы через весь город..." "Все дешевле вдвое, чем у нас..." В немецкой провинции его восхищают цветущие фруктовые сады, разбитые на сыпучем песке, и то, что женщины работают в поле, вырядившись, как на праздник: "в синих набойчатых платьях и в шляпках, наподобие наших детских". А поглядев работы на строительстве моста через Рейн, восклицает невольно: "Как здесь все солидно делают!" И во всем сквозит тайная мысль: нам бы так, это бы и у нас пошло! Или: куда там, этого у нас не позволят...
Слушает в берлинской опере "Трубадура", а сам думает: "Кабы нам сколько-нибудь порядочное управление театрами, можно бы делать дело". Видит в Австрии локомотивы, убранные красоты ради зелеными гирляндами, и вздыхает: "У нас бы не позволили. Уж коли порядок, так порядок!" Слушает в Триесте отличного певца и восхищается: "Вот бы нам такого тенора!"
Мысль о своей стране и, скорее, даже не мысль, а беспокойное, щемящее чувство не оставляет его среди европейских красот и удобств. И не удивлюсь, если, качаясь в дилижансе между Сиеной и Флоренцией или стоя ночью на мосту Веккио, он думает о России. Как все это увязать и объяснить: соблазнительность комфорта, приличий и удобств и досадную мелочность, расчетливость, "усередненность" чувств? Этого меньше, пожалуй, в Италии, но тем она и напоминает Россию. Что хорошо, что дурно на оставленной родине? И где черта, отделяющая нашу самобытность от самодурства?
Быть может, в те самые минуты, когда он глядит на нарядную парижскую толпу, шумящую на Елисейских полях, у Триумфальной арки, явится ему образ старика Оброшенова, над которым так-жестоко подшутили у Ильинских ворот. А слушая в Триесте оперу "Отелло", он думает о жене купца Краснова, за которой гоняется по дому с ножом обезумевший от ревности ее несчастный муж. Русские сны ему снятся.
Конечно, скучно ездить без языка. Как узнать страну, не говоря с людьми? В Италии Островский пытался немного объясниться с лодочником, перевозившим их к пароходу "Гарибальди", со случайными попутчиками в дилижансе. Но вообще-то Горбунов то и дело добродушно поднимал на смех его попытки разговаривать "по-басурмански". "Вообразите, - писал Иван Федорович приятелям из Венеции, - что здесь каждая баба, каждый работник говорит по-итальянски. Мы думали, думали, да и решили: должно быть, здесь такой обычай, давайте и мы по-итальянски. Так и сделали. Александр Николаевич с Шишко заговорили 23 апреля в 7 часов вечера, я начну в пятницу после обеда".
Драматург, привыкший воспринимать жизнь слухом, стал зато особенно остро видеть. Сады, горы, долины, море, жизнь улицы, траттории, кофейни, фигуры женщин, лица детей, костюмы и прически - все описывается им в дневнике цветно, увлеченно и подробно. Впрочем, не так уже верно думать, что драматург по природе только "слуховик". Пьеса и правда состоит из диалогов и скупых ремарок, но автор-то воображает себе многоцветную картину жизни - лиц, костюмов и декораций. Слуховой талант на виду, талант зрительный - непременно подразумевается в авторе драмы. Вот картинка из дневника - готовая декорация Триеста: "Восхитительная кофейная, темная, прохладная, вся в зеркалах, совсем другие женщины, страшная чернота волос и глаз. Костюмы разнообразны. С мола ловят рыбу (бычков), взакидку, без удилища; наживка из раковин. Мостовая из больших продолговатых камней, гладкая, как тротуар". Не правда ли, далее можно играть пьесу?
Или описание дороги в Турин: "Асти - старый город с башнями и колокольнями. По сторонам дороги сад, воздух пахнет сеном, и такое громадное количество светящихся червяков по деревьям, кустам и полям, что мы едем точно по бриллиантовому морю".
Наверное, образы Италии стояли перед мысленным взором драматурга, когда он, с конца 60-х годов, усовершенствовавшись в языке, стал переводить итальянские комедии и драмы. Им были переведены "Семья преступника" П. Джакометти, "Кофейная" Гольдони, "Великий банкир" Итало Франки, переделана на русские нравы комедия "Заблудшие овцы" Теобальдо Чикони. Кроме того, были начаты, но остались незаконченными или просто не дошли до нас переводы еще девяти пьес: "Фрина" Роберто Кастальвекьо, "Мандрагора" Макиавелли, "Арцыгоголо" Граццини, "Нерон" Пьетро Косса, "Женщина истинно любящая" Карло Гоцци, комедии Гольдони "Честь", "Обманщик", "Истинный друг", "Порознь скучно, а вместе - тошно" - внушительный список имен, добровольная дань благодарности русского драматурга итальянской культуре.
И было за что быть благодарным. Восприимчивой, жадной к искусству душою Островский впитывает в себя впечатления великих картин и скульптур Италии, римской архитектуры. На развалинах Колизея и в Ватикане, в галерее Уффици и Дворце дожей он смотрит все, что положено смотреть путешественнику с карманным гидом в руках.
"Несказанное богатство художественных произведений, - запишет он, выйдя из галереи Уффици, - подействовало на меня так, что я не нахожу слов для выражения того душевного счастья, которое я чувствовал всем существом моим, проходя эти залы. Чего тут нет! И Рафаэль, и сокровища Тициановой кисти, и Дель Сарто, и древняя скульптура!"
В Италии и потом в Париже Островский почти все время пребывает в каком-то состоянии внутренней растроганности и умиления, слезы то и дело наворачиваются у него на глаза, и он в самом деле будто немеет от этого изобилия красоты.
Есть вещи, столь известные каждому, столь безусловные, что трудно говорить о них, не впав в банальность. Единственное, что мы вправе сказать: "Я видел это. А ты?"
Он словно внутренне затаился, чтобы переработать все увиденное и не расплескать силу первого впечатления в неосторожных, случайных словах. Друзьям в Москву он пишет чем далее, тем короче. О Венеции: "Это волшебный сон, от которого я еще опомниться не могу. Дайте собраться с мыслями, тогда напишу вам подробно". Но не напишет, потому что впереди - Рим. А сокровищам, собранным там, "нет подобных во всем мире. Описывать их недостанет бумаги в Риме". А далее - Флоренция: "Флоренция - рай, опишу вам ее по приезде".
Вся эта красота западала куда-то глубоко и оседала в душе. Но, может быть, не меньшее впечатление произвела на Островского сама жизнь европейского, в особенности южного, города: нравы толпы, свободный, открытый стиль жизни. После жандармской России, испуганных глаз, перешептываний на улице и в клубе отрадно было наблюдать, как весенними светлыми вечерами собираются под открытым небом, за столиками, вынесенными на площадь и тротуары, люди; читают газеты, откинувшись на спинки соломенных стульев, громко спорят, смеются, поют на улицах. За это он навсегда полюбил Венецию. "Вечером сидели на площади св. Марка. Это огромная зала под открытым небом, в разных местах слышится музыка: из кофейных стулья вынесены на площадь, горит газ, сверху луна...". "Я влюбился в эту площадь. Это еще первый город, из которого мне не хочется уехать", - скажет Островский.
Русский человек, живший в царствование Николая и воспитанный этим временем, привык к тому, что все нельзя, на все запреты, что надо скрывать и желания и мысли, - и тут терялся поначалу, а потом испытывал особого рода легкость среди толпы свободно двигавшихся, непринужденно говоривших, державшихся с достоинством людей. Пусть впечатления эти внешни, поверхностны, но для короткого знакомства и их хватало. Понятно, что и Париж не оставил его равнодушным: "Париж называется Новым Вавилоном, так оно и есть, и русскому жить в Париже оченно способно. Только зазевайся немного или хоть на минуту позабудь о деле, ну и не увидишь, как целый год проживешь". Кстати, русских в Париже было предостаточно. Вообще в это путешествие Россия постоянно напоминала о себе еще и встречами с русскими людьми, оказавшимися на чужбине. Как-то в Риме Островский целый вечер провел у В.П. Боткина в компании русских художников, читал им "Минина". В Париже встречался с Иваном Сергеевичем Тургеневым и Кавелиным, с декабристом Николаем Ивановичем Тургеневым, с Григоровичем и Шевыревым. И с двоюродным братом Герцена фотографом Левицким, - с 1858 года он открыл во французской столице свою фотографию и, конечно же, пожелал вновь запечатлеть Островского. Появился и Писемский, с которым они еще в Петербурге сговаривались увидеться в Париже. Но главная "русская встреча" ждала Островского в Лондоне.
После Парижа Лондон показался нашим путешественникам хмурым, неуютным городом: сырые, холодные вечера, призрачный свет газовых горелок в туманном воздухе, "страшное движение" на главных улицах, столпотворение экипажей, "по каждой улице народ движется, как у нас в крестном ходу". В Лондоне целый день потратили на знаменитую выставку, побывали, конечно, в Хрустальном дворце. В театре Ковент Гарден слушали гастролировавшего там Марио. Но о самом сильном впечатлении этих лондонских дней мы не найдем ни строки ни в письмах Островского, ни в дневнике Горбунова.
Островский вообще был осторожен, когда дело касалось политических материй. В его заграничных записях кое-что читается между строк. "Проехавши туннель, видели много черемухи, - описывает он, скажем, дорогу из Праги в Вену. - С нами ехал венгерец, печальный и молчаливый, насилу его заставили говорить. "Подождите, - говорит, - года два, не больше, а то так и раньше". Что они обсуждали? Что будет года через два? Не о черемухе же речь...
Вся Венгрия жила тогда памятью о 1848 годе, и попутчик-"венгерец", конечно же, говорил о новой вспышке национального гнева, выступлениях против австрийской монархии.
Чуть более откровенен Островский в описании жандармского досмотра при выезде из Австрии: "Одно только и утешает, что это последний город Австрии и впереди свободная Италия. Слава богу, выбрались. Точно гора с плеч. Неприятности никакой нам не сделали, а было тяжело. Тяжелы приемы полицейские". Но обычно он еще осмотрительнее в высказываниях: о поездке в лондонский зоосад напишет, а о встрече с издателем "Колокола" - предпочтет умолчать. И если бы не позднейшие устные воспоминания Горбунова, записанные с его слов другими лицами, мы мало что знали бы об этом событии.
Существует предположение, что Островский получил к Герцену какое-то деликатное поручение от Чернышевского. Мы не видим в этом невозможного, поскольку наш драматург, как человек с довольно благополучной политической репутацией, да еще москвич, далекий от петербургских кружков, менее всего возбуждал подозрения властей и мог показаться Чернышевскому подходящей для этого фигурой. Дело происходило незадолго до ареста Чернышевского, и кто знает, что хотел бы он передать или сообщить Герцену в эти дни.
В письмах Островского сохранилась одна мимолетная, но любопытная подробность. В Берлине он, по совету Чернышевского, собирался повидаться с дьячком русской посольской церкви. "Чернышевский говорил мне в Петербурге, что он очень замечательный человек", - пишет Островский из Германии друзьям. Отсюда явствует, что Островский виделся с Чернышевским непосредственно перед своей поездкой, в марте 1862 года, в Петербурге и говорил о ее маршруте. Диковинно ли предположить, что Чернышевский дал Островскому какое-то письменное или устное поручение к Герцену? Может быть, он вез ему что-нибудь? И не оттого ли так облегченно вздохнул Островский ("Точно гора с плеч..."), когда австрийская полиция, основательно перетряхивавшая его багаж, отпустила его с миром? Друзья, со слов Горбунова, вспоминали, что Островский сильно робел перед визитом к Герцену и все боялся, что его "притянут" по возвращении в Россию. Поэтому один из его первых вопросов к хозяину, когда он переступил порог дома Орсет-хауз на тихой улочке Лондона, был - есть ли у них русские шпионы? Герцен, наверное, рассмеялся: где же их не бывает? Но можно ли жить, вечно чувствуя себя под надзором? - и перевел разговор на другую тему {Беспокойство Островского не было, как оказалось, напрасным. Побывавший в Лондоне почти одновременно с ним и навестивший Герцена в мае 1862 года Н.А. Потехин по возвращении в Россию был привлечен по делу "О лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами", арестован и на некоторое время заключен в Петропавловскую крепость. Недаром Островский долгие годы молчал о своем визите к Герцену. Он, конечно, расспрашивал Островского о Москве, о московском театре, о литературных новостях, о настроениях в России. Недавно он получил письмо из Москвы: его добровольный корреспондент писал, что в Москве никто не сочувствует радикализму издателей "Колокола". Это письмо задело Герцена. Тем интереснее было ему говорить с прославленным москвичом. Неужели Москва спит, когда проснулась Россия? Герцен вспоминал Москву своей юности, Москву 40-х годов, где на дырявых чердаках и в студенческих каморках рождалась непокорная, бунтующая мысль, и горевал о потерянных в пути старых друзьях: "Я схоронил Грановского - материально, я схоронил Кетчера, Корша - психически, я гляжу на дряхлеющего Тургенева, на Московский университет, превращающийся в частный дом...". Островский мог быть не во всем согласен с Герценом, наверное даже не во всем, но тот произвел на него сильное впечатление простой сердечностью и "дьявольским остроумием".
Если верить Л.Новскому, записавшему это со слов драматурга, в бытность свою в Лондоне Островский встречался с Герценом "целую неделю", то есть, во всяком случае, виделся не однажды. Может быть, тут и преувеличение, но встреча, по-видимому, не была единственной. Подтверждение этому неожиданно нашлось в считавшейся давно утраченной и неожиданно обнаруженной лишь в 1980 году записной книжке Островского. Внимание в ней привлекают две ранее неизвестные лондонские записи:
"22 [мая] / 3 [июня 1862 г.]
Поутру ездил по делам и покупкам. Вечером в Ковент [гарденский] театр. Оттуда к знаком [ым]. Ночь проходили по улице.
23 [мая] / 4 [июня 1862 г.]
Утром по Темзе на выставку. Вечером в компании".
"К знакомым", "в компании" - так ради попятной конспирации определил Островский свои встречи с Герценом. Автор путевого дневника, обычно тщательно фиксировавший для памяти имена всех встречных-поперечных, на этот раз загадочно уклончив. Но его лондонские маршруты легко восстанавливаются по сопоставлению с тем, что было рассказано И.Горбуновым и Л.Новским. Первый раз Островский явился в Орсет-хауз прямо из театра, где слушал знаменитого певца Марио в опере Мейербера "Гугеноты". Оперные спектакли в Лондоне кончались не слишком поздно, но гости из России все равно засиделись у Герцена далеко за полночь, так что не могли попасть в пансион, где остановились. На следующий день была среда, обычный приемный день у Герцена, и, как можно предполагать, Островский вновь оказался у него на этот раз в кругу более широком, "в компании".
Вернемся же к тому, о чем говорили они в те светлые лондонские вечера июня 1862 года.
Со слов Горбунова мы знаем лишь отрывочные подробности. Так, Горбунову запомнилось, что Герцен восхищался драмой "Гроза" ("Грозу" пропитал Герцену посетивший его незадолго до того Федор Бурдин). И еще, что во время разговора, разгорячившись, он вдруг ударил кулаком по столу и воскликнул:
- Нет! Крестьяне будут освобождены, и с землей!
Всего две детали. Но зная, о чем думал и писал Герцен в те дни, можно попытаться реконструировать ход их беседы: ведь он имел обыкновение говорить о существенном, о том, чем неотступно была занята его мысль. И тогда подробности, оставшиеся в памяти Горбунова, найдут свое место в общей картине разговора, завязавшегося в "Орсетьевке", - так называл Герцен, посмеиваясь, свое лондонское жилище.
Островский посетил Орсетьевку в тот момент, когда взволнованный вестями, шедшими из Россия, Герцен все глубже ввязывался в спор со старыми друзьями - Кавелиным, Тургеневым, исповедовавшими умеренную либеральность и "европеизм". То, что крестьяне в России были освобождены без земли, казалось Герцену корнем всех вопросов - в том числе и эстетических. Как раз в те дин из-под типографского станка вышел свежий лист "Колокола" от 1 июня 1862 года, и можно не сомневаться, что Островский держал его в руках в доме Герцена. Жегшиеся в России, тайком передававшиеся из рук в руки страницы вольного слова здесь можно было читать не таясь.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 21:59 | Сообщение # 33 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 291
Статус: Offline
| Русского путешественника не могла оставить равнодушным напечатанная в "Колоколе" статья "Москва нам не сочувствует", в которой Искандер желчно и горько сетовал на общественную апатию и ленивый: либерализм.
А отголосок разговоров с Островским можно услышать в появившейся чуть позднее в "Колоколе" статье "Концы и начала". Первую статью из этого цикла Герцен закончил спустя несколько дней после отъезда Островского из Лондона - 10 июня 1862 года. Это был страстный спор о современном искусстве на Западе и в России. О том, что такие вершинные достижения европейского искусства, как исполнительское мастерство Марио, которого Островский только что слышал в "Гугенотах", еще не могут быть свидетельством превосходства над русской культурой.
Герцен горячо возражал тому взгляду, "что исторически выработанный быт европейских бельэтажей один соответствует эстетическим потребностям развития человека". Его неназванным оппонентом был Тургенев, он считал, "что искусство на Западе родилось, выросло, ему принадлежит и что, наконец, другого искусства нет совсем". Европейское искусство накопило огромное количество ценностей, Европа - замечательный музей, соглашался Герцен, "но где же во всем этом новое искусство, творческое, живое, где художественный элемент в самой жизни?"
Герцен, конечно, расспрашивал Островского о его впечатлениях от европейских городов и музеев. И тут он мог найти себе поддержку у собеседника: писатель восхищался классическими картинами и статуями, сгустком достижений прошлого. Но европейское искусство нынешнего дня, в частности драматическое, разочаровало его. В Париже они с Горбуновым видели крупнейших французских актеров и дружно решили, что им куда как далеко до Мартынова. Не отголосок ли этих разговоров - рассуждение в "Концах и началах" об удешевлении европейского искусства театра на потребу мещанской толпе, об игре актеров, ставших "паяцами сентиментальности" или "паяцами шаржи"?
Оригинальность взгляда Герцена состояла в том, что упадок искусства он ставил в связь с падением общественной энергии, духа народной жизни. "Искусство не брезгливо, - рассуждал он, - оно все может изобразить, ставя на всем неизгладимую печать дара духа изящного и бескорыстно поднимая в уровень мадонн и полубогов всякую случайность бытия, всякий звук и всякую форму - сонную лужу под деревом, вспорхнувшую птицу, лошадь на водопое, нищего мальчика, обожженного солнцем..." (Островский мог только кивнуть согласно на эти слова.) Но и искусство имеет свой предел, продолжал свою мысль Герцен, оно останавливается бессильно перед "мещанином во фраке".
А как же пьесы Островского, как же "Гроза"? Ведь мещанское сословие, торговец, купец, вышедший из крестьянства и обрядившийся во фрак, все это явилось и в России и уже запечатлено талантливым пером драматурга. "Дело в том, - отвечает Герцен, - что весь характер мещанства, с своим добром и злом противен, тесен для искусства; искусство в нем вянет, как зеленый лист в хлоре, и только всему человеческому присущие страсти могут, изредка врываясь в мещанскую жизнь или, лучше, вырываясь из ее чинной среды, поднять ее до художественного значения".
Тем больше славы творцу Катерины, сумевшему высоко поднять ее над непоэтической мещанской средой! На Западе таких подъемов страсти, безоглядных поступков и крупных характеров Герцен видит все меньше. В искусстве, как и в жизни, все стремится к благоприличию, усереднению, общедоступности - "снизу все тянется в мещанство, сверху все само падает в него по невозможности удержаться". Рост мещанства на Западе вызван освобождением крестьянина от земли, его стремлением выбиться в благополучного горожанина, лавочника. Герцен надеялся, что России удастся миновать эту неизбежность: пусть она даже "пройдет и мещанской полосой", но не застрянет в ней...
Так понятия Искандера об искусстве связывались с его социальной идеей. И когда он, стукнув кулаком по столу, воскликнул, что "крестьяне будут освобождены, и с землей", он защищал этим свою веру в возможность для России иного пути, чем тот, что был уже изведан Западом. Такие сочинения, как "Гроза", внушали надежду. Сопротивление русского искусства мещанской мелочности само по себе сулило возможность иного социального будущего. Если крестьянам дадут землю, если благосостояние придет в Россию путем общинного социализма, а не как следствие раскрестьянивания, конкуренции, роста сословия лавочников, то еще остаются надежды на сохранение духовности, гуманного содержания жизни, а значит, и почва для искусства. "Зачем же наряжаться в блузу, если есть своя рубашка с косым воротом?" - спрашивал Герцен, и это другим концом смыкалось с верой Островского в русскую самобытность, в силы народа, ищущие себе исхода не в одном самодурстве. Оттого, верно, собеседники, встретившиеся в тот вечер в Орсетьевке, несмотря на все различие в общественном темпераменте и политических взглядах, чувствовали подспудное родство в чем-то главном и легко находили язык друг с другом.
Спор с Тургеневым был не кончен. Мысли Герцена, выраженные в "Концах и началах", не только были развиты им прежде в беседе с Островским, но, может быть, и уяснились ему отчасти вследствие этой встречи. Во всяком случае, гость мог сполна оценить и блестящий ум и искреннее благожелательство хозяина. Островский представил Герцену своего постоянного спутника - Горбунова. Тот был уже наслышан от навещавших его русских о его таланте "устного рассказа" и просил Горбунова показать что-нибудь ему. Горбунов, не чинясь, изобразил две-три сценки. "Утро квартального надзирателя" привело Герцена в неописуемый восторг, он обнял актера, а на прощание подарил ему свой дагерротип, где он был снят вместе с Огаревым, и надписал - "alter ego". Надо думать, такой же подарок получил и Островский, но только в его бумагах фотографии этой не удалось найти.
Переполненные впечатлениями, Островский и Горбунов возвратились в ночь на 4 июня домой поздно. И тут, как уже упоминалось, с ними произошло небольшое недоразумение, которое, как всегда, забавно расписал потом Иван Федорович. Они позабыли, что не в Яузскую часть возвращаются, где двери вечно настежь, и нашли пансион, в котором останавливались, запертым на ключ. Улицы были пустынны. Островский пытался объясниться с полисменом, прохаживавшимся неподалеку, но успеха не имел, и в сердцах обратился к Горбунову:
- Иван Федорович, что же вы по-немецки не говорите? Ведь у вас жена немка!
Горбунов пожал плечами и употребил по адресу беспонятливых англичан крепкое слово.
- Вы не за Москвой-рекой, - испугался Островский. - Вас сейчас потащат.
- Ведь он ничего не понимает, - кивнул Горбунов в сторону невозмутимо наблюдавшего эту сцену "бобби".
- Да ведь он звуки-то слышит...
Так и пробродили они по холодным рассветным улицам Лондона до пяти часов утра, браня аккуратных англичан, вспоминая свое посещение Герцена и восхищаясь умом Искандера. А спустя несколько дней - 28 мая 1862 года - наши путешественники уже пересекли русскую границу, возвращаясь домой: снова полосатый столб, недоверчивые взоры жандармов, скудные, неровно возделанные поля в окне, драные одежды мужиков, темные платки согнувшихся в поле с мотыгой баб. По дороге заехали на Витебщину, в родную деревню Шишко. "Это для меня необходимо, потому что я хочу познакомиться с Белоруссией", - объяснял Островский друзьям. Он был в особом, приподнятом состоянии, разбуженном в нем путешествием, и теперь его ненасытная любознательность перекинулась на родной край: после Парижа и Лондона ему еще нужна была и белорусская деревня.
Из заграничного путешествия Островский вернулся на родину помудревший и просветленный, но с той же жаркой любовью-ненавистью к русскому человеку, с какой он отсюда уезжал. Любовью - к нашей широте, нерасчетливости, терпимости, открытости добру. Ненависти - к российской отсталости, нравственной дикости, самодурству, темным страстям. Путешествие, говоря пушкинским словом, освежило его душу. И когда он снова оказался в Москве и сел за свой шатучий стол на антресолях Николо-Воробьинского, его охватило жадное нетерпение - писать.
К концу 1862 года им была закончена пьеса "Грех да беда на кого не живет" - драма сильных характеров. Островский был знаком с молодым купцом Горячевым, отец которого был перевозчиком кладей на Нижегородскую ярмарку. Горячев-сын поражал драматурга своей энергией, нравственной цельностью и мощью. Тот, в свою очередь полюбив театр, боготворил Островского и однажды, "как на исповеди", рассказал ему свою жизнь. Его рассказ и послужил сюжетом для драмы.
Пресыщенный скучающий "европеец", столичная штучка, барин Бабаев, затевает в провинциальном городе, где останавливается по делам, мимоездом, интрижку со скуки, а наталкивается на пожар страстей.
Русская натура - горячая, искренняя, сосредоточенная в своем чувстве, сполна выразилась в герое. Купец Лёв Краснов торгашеского низкого духа в себе не имеет, да он "от мужика недалеко ушел", стало быть, вчерашний крестьянин. А по природе он из тех людей, что
Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку...
Конечно, человек он грубый, неотесанный, "ласки его медвежьи", говорит жена. Но не осуждение домашнего самодурства важно в Краснове, хоть есть в нем и самодурные черты, а мир крупных страстей, мучительной ревности и любви, на которые еще способен цельный народный характер.
"Это - натура, а не самодурство. Этому человеку половинок не надобно", - скажет Достоевский о герое, будто предвосхитившем его Рогожина в "Идиоте". Пров Садовский в Москве и Павел Васильев в Петербурге потрясут публику исполнением роли Льва Краснова. Критика не шутя будет сравнивать Островского с Шекспиром.
Драму "Грех да беда..." напечатает журнал "Время" братьев Достоевских - Достоевский, еще ранее печатавший "Женитьбу Бальзаминова", подкупил его и тем, что защитил от славянофильской критики московской газеты "День". "А где же настоящий купец? - негодовал на Островского Иван Аксаков.- Где душа его? Где то, что в нем жить должно?" ("День", 1861, 15 окт.). Достоевский отвечал на это в своем журнале: ".нам нестерпимо суждение Аксакова, как было бы нестерпимо суждение барича в желтых перчатках и с хлыстиком в руках над работою чернорабочего" . Островский должен был оценить прямоту и резкость такого заступничества. Он не намеревался изменять "Современнику", но таковы были обстоятельства: вскоре после его возвращения из-за границы Чернышевский был заключен в Петропавловскую крепость, а журнал Некрасова приостановлен на восемь месяцев. Приходилось искать новую журнальную гавань.
Но, создав трагический образ Краснова, близкий Достоевскому своей "почвенной" силой, Островский вовсе не расстался с обличением самодурства, более того, как бы комедийно обострил эту тему. В августе 1863 года он окончил комедию "Тяжелые дни", где снова во всем комическом блеске предстала перед публикой знакомая по пьесе "В чужом пиру похмелье" купеческая семья Брусковых и легендарный "Кит Китыч", которого Садовский сыграл с таким полным претворением в плоть, что один из зрителей, московский купец Н-в (Носков?), говорил артисту: "Как вышел ты, я так и ахнул! Да и говорю жене - увидишь, спроси ее, - смотри, я говорю: словно бы это я!.. Борода только у меня покороче была. Ну, всё как есть; вот когда я пьяный... Сижу в ложе-то, да кругом и озираюсь: не смотрят ли, думаю, на меня. Ей-богу!.. А уж как заговорил ты про тарантас, я так и покатился! У меня тоже у Макарья случаи с тарантасом был..."
Но кроме знакомого Тит Титыча появился в "Тяжелых днях" и сам наблюдатель этой жизни, уже мелькавший некогда в "Доходном месте" адвокат Досужев, на устах которого то и дело можно поймать ироническую и примирительную улыбку автора.
- Какие выгоды доставляет тебе твое занятие? - спросят у него.
- Выгоды довольно большие, - ответствует Досужев; - а главное: что ни дело, то комедия.
После заграничного путешествия Островский, кажется, еще лучше определил сетку координат на географической карте, местоположение страны, где живут его герои: это замоскворецкая пучина, которая к северу граничит с Северным океаном, а к востоку - с восточным. Досужев переехал "на самое дно" ее, и теперь живет "в той стороне, где дни разделяются на тяжелые и легкие; где люди твердо уверены, что земля стоит на трех рыбах и что, по последним известиям, кажется, одна начинает шевелиться, значит, плохо дело; где заболевают от дурного глаза, а лечатся симпатиями, где есть свои астрономы, которые наблюдают за кометами и рассматривают двух человек на луне; где своя политика и тоже получаются депеши, но только все больше из Белой Аралии и стран, к ней прилежащих. Одним словом, я живу в пучине".
Нравы этой "пучины" - грубая насмешка, издевательство над человеком, не привыкшим защищать себя, не умеющим, по благородству, ответить тем же своим обидчикам, - словом, драма беззащитности перед людской подлостью развернута в пьесе "Шутники", написанной в 1864 году. Старый чиновник, любящий отец своей дочери Оброшенов, порой паясничает, держится шутом, на манер "униженных" героев Достоевского - Мармеладова или "Мочалки", штабс-капитана Снегирева. Он ведет себя так от гордости, тайной амбиции, боясь обнажить ранимую свою душу. И когда молодые бездельники играют с ним злую шутку, обольстив его ложной надеждой и посмеявшись над ним и над родительскими его чувствами, возникает горькая мысль: как обвыклись за века русские люди со всяким унижением, с тем, чтобы самому унижать или быть униженным...
Бросив на пол пустой конверт, в котором должны были лежать чудесным образом доставшиеся ему деньги - спасение семьи, актер Шумский трагическим полушепотом, переворачивавшим душу, раздельно произносил: "По-шу-ти-ли..." И в мертвой тишине Малого театра взрывались аплодисменты в честь артиста и автора пьесы.
Во втором акте "Шутников" Островский вывел на сцену московскую уличную толпу - не ту итальянскую, легкую, беззаботную, а толпу несчастных, разъединенных и враждебно настроенных друг к другу людей. Критики ругали этот акт: мол, сцена на улице - не для театра. Бытовые "народные сцены", которые полюбятся режиссерам начала будущего века, не были еще в ходу. А в декабре 1865 года Островским была закончена пьеса "Пучина", развертывавшая этот символический образ и как бы подводившая некий итог теме Замоскворечья в 60-е годы. Баженов не понял драму, когда заявил на страницах "Антракта", что "глубина пучины равняется глубине самой мелкой тарелки". Пьеса писалась долго, трудно, потом поправлялась из цензурных опасений, и все-таки ее боялись ставить, а когда поставили - сделали это неудачно {П.О. Морозов, располагавший не дошедшими до нас материалами, утверждал, что "Пучина" "довольно долго встречала неодолимые препятствия к появлению в печати и на сцене. И то и другое стало возможным только после значительных переделок и сокращений, так что новая "Пучина" представляла только обрывки старой"
Пьеса получилась необычной для Островского по жанру, экспериментальной: не драма-эпизод, а драма-судьба, настоящий роман в лицах. Принцип внешнего построения был заимствован из переводной мелодрамы Дюканжа "Тридцать лет, или Жизнь игрока", в которой когда-то блистал Мочалов, о чем автор намеренно вспомянул в прологе. Но содержание-то - самое "отечественное", свое, "домашнее".
Герой пьесы Кисельников проходит путь, осколками мелькавший и в прежних пьесах, но здесь прочерченный от начала до конца с жесткой графической очевидностью. Студент-идеалист 30-х годов, мелкий судейский чиновник в 40-е... Где начинается его падение? Каждое новое действие пьесы происходит через пять-семь лет и рисует неопровержимо, как молодой университант, вступающий в жизнь с надеждами, романтическими стихами и гражданскими упованиями, женясь на замоскворецкой девице, проваливается в быт, как в пучину.
Островский ведет зрителя по четырем кругам этого благоустроенного, с геранями на окошках, замоскворецкого ада, изображает четыре ступеньки, по которым ниже и ниже опускается герой:
первый круг - невежество, дичь захолустья, мир слухов, сплетен, примет, безобидный, но засасывающий, как болотная ряска;
второй круг - тенета семьи, мещанский быт, дурно воспитанные дети, грязь, суета и лень, рождаемая инерцией будней;
третий круг - обман по мелочи ради семьи, дележка доходов в суде, вымогательство, использование чужих слабостей;
и, наконец, четвертый круг - настоящее преступление, подчистка в деле, крупная взятка в конвульсивной попытке вырваться из мучительного прозябания в нищете. Тут уже время явиться на сцене Неизвестному - фигуре грозной и не по-бытовому странной.
В исследованиях, касавшихся демонологии в русской литературе, ни разу не было отмечено, что героя одной из бытовых драм Островского посещает ночной собеседник Ивана Карамазова. О черте говорится еще в прологе, когда купцы и студенты обсуждают судьбу игрока в мелодраме Дюканжа и кто-то роняет мысль, что черт является к человеку в "тихом" образе. Бес, навестивший Ивана Карамазова, утверждал, что ему хочется порой превратиться в "семипудовую московскую купчиху". Так обнажается злое, дьяволово начало смиренного замоскворецкого быта, той власти "мещанства", которой боялся Герцен. Вопрос, решаемый зрителями Дюканжа в прологе драмы, - человек "от приятелев пропадает" или "сам себе виноват", затрагивает и другую тему, которой давно болеет Достоевский: соотношения "среды" и личной ответственности.
Заграничные впечатления обострили чутье Островского к таким именно вещам: всему виной "условия" да "обстоятельства", через которые не перешагнешь, или есть в человеке и своя воля, а значит, и своя ответственность? Неужели и частному быту и истории заранее определен свой круг? И что значит тогда наша "самобытность"? Да, отвечает драматург, среда тяжела, но и человек ответствен. И может быть, наш "русский вопрос" вопрос не только среды и условий, но и способности сопротивляться этой повсюдной "пучине", вырваться из-под ее незаметной, зыбкой, затягивающей власти.
ЧЕЛОВЕК ГОНИМЫЙ
В свежеотремонтированном столичном Мариинском театре в 1862 году был расписан новый плафон. На медальонах помещены портреты драматургов - Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. И рядом единственный из современных сценических писателей - Островский. Это ль не признание для художника?
Казалось, его положение в литературе приобрело солидную устойчивость. Пьесы "Гроза" и "Грех да беда..." были увенчаны большой академической ("Уваровской") премией. В 1863 году он был избран членом-корреспондентом Академии наук. Со статьи Ральстона в "Эдинбургском обозрении" (1868) о нем начала писать заграничная пресса. Но, появляясь на пороге театральной конторы с прошнурованной рукописью в руках, он всякий раз чувствовал, как что-то холодело и обрывалось у него внутри. Будто вмиг прочно забыто все, что сделал он для русского искусства, и он опять входил в эти двери робеющим просителем, безоружным перед брюзгливым равнодушием театрального начальства.
"Диковинное положение русского писателя, - отводил Островский душу дома со старым знакомым. - Кончишь пьесу и садись писать прошение. "Имею честь представить начальству театра такую-то пиесу и покорнейше прошу принять ее", и т. д. и т. д. Идет пьеса на просмотр цензуры, Театрально-Литературного комитета и т. д. и т. д. Но скажите, есть ли где такое положение за границей для тамошних писателей? Всюду мало-мальски талантливую вещь для театра, как говорится, оторвут с руками. Не автору приходится писать прошение, а его просят и все для него устраивают. Здесь же, у нас на Руси, мало написать пьесу, надо провести ее по всевозможным мытарствам".
Как Мольер, как Шекспир, связанные со своей труппой и писавшие для нее, Островский чувствовал себя человеком театра, драматургом больше, чем писателем. Пьесы не для чтения пишутся, их нужно играть. Творческий акт получает для драматурга свое завершение лишь в спектакле, и оттого, закончив свой уединенный труд, он чувствует себя лишь в начале пути. Пока работаешь, поглядывая из окошка мезонина на пустырь у Серебряннических бань, все кажется ясно и просто - лишь бы с пьесой сладить. Но выходишь в мир, и точно бесконечная чугунная лестница из управляющих, проверяющих, наставляющих нависает над твоей головой. Где-то совсем далеко, на самой ее вершине, - император, ко двору которого приписаны столичные театры. Русские спектакли он посещает редко, но его вкус правит миром. Ему нравится балет и французский водевиль. Современные русские пьесы тяготят его: жизнь является в них в своей неприглядности.
"Государь говорил, - вспоминает Бурдин, - что Островский человек талантливый, но он не может смотреть его пьес. "Я приезжаю в театр отдохнуть от трудов и развлечься, - говорил он, - а посмотревши пьесы Островского, уезжаю еще более грустный и расстроенный".
Огорчение на красивом, утомленном лице Александра II ловили придворные, и, отражаясь в лицах, как в системе зеркал, оно спускалось вниз по лестнице, пока Островский не ловил его отсвет на физиономии последнего чиновника московской конторы, принимавшего его рукопись.
"До бога высоко, до царя далеко..." Ниже царя, но все же достаточно высоко, чтобы его видели лишь издали, помещался на этой лестнице граф В.Ф. Адлерберг - министр двора, с которым Островский не удостоился разговаривать, кажется, ни разу в жизни и только однажды обратился к нему с письмом.

Когда-то А.А. Ивановский запечатлел молодого Адлерберга на рисунке, сделанном с натуры, среди членов следственной комиссии по делу декабристов. В туго застегнутом высоком воротнике с мальчишески торчащими волосами он сидит в самом конце стола, напротив графа Бенкендорфа, и всем своим видом являет немного растерянную молодость в кругу убеленных сединами и особо доверенных старцев. Министром двора Адлерберг стал в 1852 году, за год до того, как Островский поставил на императорской сцене свою первую пьесу, и пробыл в этой должности почти два десятилетия, пока не передал ее своему сыну, Адлербергу 2-му.
Островскому Адлерберг симпатизировал мало и, зная вкус царя, поощрял театральную дирекцию попечительно заботиться о французских спектаклях и о балете. По понедельникам, вслед за каретой с царским вензелем, "весь Петербург" стекался на балетные премьеры, и министр двора неизменно был тут, среди придворных мундиров и вечерних платьев со шлейфами.
Чуть ниже Адлерберга, но все же невероятно высоко, располагался на этой лестнице директор императорских театров - крупный придворный генерал. В театральном деле верховным владыкой был именно он, и для русского драматурга замена управляющих театрами была равнозначна смене царствований. Ими мерялись театральные эпохи. Говорили: "Это было при Гедеонове", или "при Кистере", или "при Всеволожском".
В 1858 году ушел, наконец, на покой Александр Михайлович Гедеонов, старая лиса, николаевский царедворец, четверть века державший в узде русское искусство. К концу его правления стали неудержимо размножаться чиновники конторы, заселившие на Театральной улице, построенной Росси за Александрийским театром, множество квартир, назначавшихся прежде артистам.
Но Гедеонов, при своих крепостнических ухватках, хотя бы знал театр. Пришедший ему на смену А. И. Сабуров - гофмейстер двора великого князя - занял эту должность случайно, из-за внутренних перемещений в придворном ведомстве. Молодящийся старичок, в парике и с брюшком, Сабуров прибыл из-за границы и увлекался по преимуществу французской труппой. Он слыл оригиналом, характер имел взбалмошный и упрямый, не понимал театрального дела, любил распекать, сильно картавя, забывал назавтра то, что приказывал сегодня. Увлечение молоденькими театральными воспитанницами не довело его до добра: в 1862 году его сменил граф Л.М. Борх.
Этот временщик, пробывший у кормила правления сценой тоже пять лет, с 1862 по 1867 год, внешне был полной противоположностью своему предшественнику. Вежливый и благообразный господин барской наружности с роскошными бакенбардами, расчесанными на обе стороны, он жил не на казенной квартире за Александринкой, а в собственном доме на Неве с величавым швейцаром. Для артистов и драматургов сановник этот был еще недоступнее. Борх являлся в театр во фраке со звездами и белом галстуке, был надменен, никому не подавал руки. Говорил он с сильным немецким акцентом, и, когда обращался к артистам, они должны были выслушивать его стоя. Общего с Сабуровым у него было только то, что он ничего не понимал в русском театре и, как однажды выяснилось, не знал, кто написал "Ревизора".
Для театральных генералов и наш Островский был не очень определенной, расплывчатой фигурой. Какой-то московский драматург... Ах, да... Купеческий жанр... Барышни в ситцах...
Сабурова как-то просили ассигновать денег на постановку одной из пьес Островского.
- Кто такой Островский, стоит ли он, чтобы делать расход? - спросил, нахмурившись, директор.
На русском искусстве вечно наводили экономию: сыграют и в старых декорациях. Зато не жалели денег для гастролеров. В кругу людей, близких Островскому, ходил ядовитый рассказ, как ухаживали в Петербурге за Рашелью. Она сама, ее брат и все актеры труппы получили от двора подарки на несколько тысяч рублей. А когда Рашель заявила, что привыкла пить во Франции ослиное молоко, государь лично распорядился передать ей из гатчинского зверинца ослицу с осленком; ослица перестала доиться, и ее, но докладу Адлерберга государю, спешно заменили другой...
Директор императорских театров - особа близкая царю, беспокоить его можно было лишь в крайних случаях. И по своим нуждам драматургу приходилось иметь дело с лицом тоже важным, но все же более доступным - заведующим репертуаром Федоровым.

Павел Степанович Федоров был личностью в театральном мире легендарной. Он пережил на своей должности и Гедеонова-отца, и Сабурова, и Борха, и Гедеонова-сына, сумевши внушить всем, что незаменим; энергичный администратор, он чуть не четверть века руководил императорской сценой: назначал репертуар, принимал и увольнял актеров.
В Петербурге знали два его лица: одно - любезный светский собеседник, острослов, салонный дипломат; другое - надутый, чванливый начальник, вспыльчивый и нетерпимый. Актеры прозвали его "Губошлеп". Он постоянно шамкал большими губами, будто жевал что-то, и вообще имел внешность неприглядную: огромные оттопыренные уши, черепаховой оправы очки и довольно тучное тело на коротких ногах: Федоров не ходил, а двигался.
Как и его патроны, Павел Степанович благоволил к опере. Драматической труппой он занимался по обязанности и без любви. В прошлом почтамтский служащий, он сам сочинял водевили и переводил с французского. Глинка невзначай прославил его музыкальный дар, аранжировав его романс: "Прости меня, прости прелестное созданье...". Но по сути своей он был и остался чиновником до мозга костей. Чиновник же формирует мир по своему образу и подобию. В драматической труппе оп постоянно вел войну с "бурными гениями", вроде Павла Васильева, и поощрял добродетельную середину. Нильский был его любимцем. При нем утвердилось и Александринском театре понятие "выигрышная роль", при нем процвела система наградных бенефисов, назначаемых начальством. Федорову не нужны были художники-исполнители, замечал драматург Аверкиев, достаточно было и исполнительных чиновников.
"Купеческий Шекспир" не пользовался расположением Губошлепа. Федоров отдавал себе отчет, что нельзя вовсе изгнать Островского из репертуара, не разорив русской сцены, и все же постоянно теснил его на афише. Он ставил пьесы московского драматурга на самые невыгодные дни недели, когда ожидался плохой сбор, и в особенности перед летом, когда публика разъезжалась на дачи. А сам говорил с брезгливой миной, выпячивая большие губы: - Вот нас упрекают все, что мы не играем Островского (он произносил Островского), но он не дает сборов.
Островский возмущался этим коварством, приводил в пример московские театры, где те же пьесы, что в Петербурге, неизменно собирали полный зал, но с Федоровым опасно было вздорить. Еще в ноябре 1861 года Павел Степанович поставил Островскому ловкую подножку с помощью Литературно-Театрального комитета. Этот Комитет был изобретением Федорова, и Островский враждовал с ним всю свою жизнь.
Чиновничье мышление тяготело к изобретению новых инстанций и порожцев, о которые можно споткнуться искусству. Федорову показалось мало одной официальной цензуры, располагавшейся у Цепного моста, и он создал при императорских театрах особый комитет, призванный, как было объявлено, оценивать новые пьесы исключительно по их художественному достоинству и тем спасти русскую сцену от наводнения поделками и безделками.
В Комитет Федоров вошел сам и посадил послушных себе люден - Ротчева, Юркевнча, не драматургов, а драмоделов. В Комитет входил и Краевский, давний недоброжелатель Островского. Что ж удивительного, что Комитет в таком составе, крайне невзыскательный к переводным водевилям своих сочленов, забраковал за малую художественность... пьесу "За чем пойдешь, то и найдешь" ("Женитьба Бальзаминова").
Этот эпизод надолго отравил настроение Островскому, парализовал желание писать.
В нем всегда было что-то детское, и это не унижение для художника. По-детски открыт, простодушен был он сам, наивно выражалась его радость, когда, во время представления его пьесы, он мог, забывшись, хлопнуть незнакомого соседа по коленке и воскликнуть весело: "Прекрасная пьеса... жизненная, смешная!" Или в ответ на похвалу какой-то роли в его комедии, с добродушной улыбкой поглаживая бороду и поводя головой на свой особый лад, сказать с искренним убеждением: "Ведь у меня всегда все роли превосходные!" И так же по-детски отчаивался он, переживая обиду. Каждый несправедливый отзыв о его пьесе уязвлял его глубоко. Обладавший огромным умом, он был беззащитен перед хитростью, двойным ходом, рассчитанной интригой, а в то же время безоглядно доверчив и легко обольщался добрым отношением к себе.
Он привык ожидать каверз от жандармской цензуры. Но тут коллеги... Люди литературы и театра, рассуждающие лишь о качестве пьес... И поступить так не с новичком, не с дебютантом, а с прославленным автором "Грозы"!.. Островский был ошеломлен.
"Поверьте, - писал он в решительном письме Федорову, - что этот поступок Комитета оскорбителен не для одного меня в русской литературе, не говоря уже о театре... У меня остается только одно: отказаться совершенно от сцены и не подвергать своих будущих произведений такому произвольному суду".
Создатель русского театра отказывался от сцены! "Я так люблю сцену, - писал он в те же дни Некрасову, - столько сделал для нее, и, наконец, что всего важнее, - театр был единственною целью всей моей деятельности; Вы поймете, что мне не очень легко было принять такое решение. Но что же делать?"
Островский ждал, что его будут отговаривать, пойдут на уступки, пересмотрят решение, но заведующий репертуаром оставался бестрепетен. За Островского вступились литераторы, вступился В. Курочкин в "Искре", вступился Д. Минаев, написавший под псевдонимом "Санкт-Петербургский Дон-Кихот" в журнале "Гудок" иронические стихи, напоминавшие Комитету о фресках Мариинского плафона:
"Осудим их строго ль?
Пусть ставят лишь пьески
Дьяченки, а Гоголь
Пусть смотрит из фрески"
Вступился и Некрасов. В клубе он встречался за картами с директором театров Сабуровым. Тот проводил за этим занятием ночи напролет и в случае неудачи не стеснялся одалживать деньги. Тут и мог подвернуться Некрасову случай поговорить об Островском.
1 ноября 1862 года Комитету пришлось пересмотреть свое решение. "Ура! Ты возвращен Театру и нам! - писал, ликуя, Бурдин. - Сию минуту получил известие: пиеса "Женитьба Бальзаминова" - одобрена Комитетом! Краевский уехал зеленый, как малахит! Наша взяла!"
Драматург имел основание сказать о себе: "В театре я - человек гонимый". Даже пересматривая свое решение, Комитет, но без участия Федорова, сделал унизительную оговорку: "допустить комедию на Александрийскую сцену, поскольку, в отличие от Мариииского театра, в Александринке разрешается давать пьесы, "удовлетворяющие вкусу менее взыскательной публики".
Островский никогда не мог забыть этого случая. И спустя двадцать лет в пьесе "Таланты и поклонники" пригвоздил-таки досадивший ему Комитет одной озорной репликой. В этой комедии прощелыга Мигаев, продажный антрепренер, пописывает водевили, но не знает, как провести их через Театрально-Литературный комитет. "А вы в другой раз, коли напишете, скажите мне, - утешает его князь Дулебов. - Я вам сейчас, у меня там... Ну, да что тут. Только скажите".
Но юмор юмором, а явившаяся Островскому впервые в 1861 году горькая мысль оставить театр стала все чаще возвращаться к нему. Издалека, на расстоянии десятилетий, 60-е годы в России капались розовой эпохой реформ и надежд - особенность всякого дистанционного зрения. За крестьянской реформой последовали судебная, цензурная, земская, и вокруг каждой из них взвивалось облако восторгов, упований, казенного и либерального краснословия.
"Мы живем в удивительное время обновления и преобразований, - писал "Русский вестник" Каткова. - Ничего подобного не было до сих пор в нашей истории. Были в ней крутые перевороты... но не было ничего подобного тому, что совершается теперь, - не было ни по размерам, ни по значению".
Но надо было жить в это "удивительное время" и быть русским драматургом, чтобы на себе испытать, как тебя попеременно опускают то в кипяток, то в ледяную воду: обольщают свободой, призывают надеяться и тут же отбрасывают к прежнему сознанию, что искусству - ничего нельзя.
В 1862 году в Петербурге находят прокламации, ищут поджигателей Щукина и Апраксина двора - а страдает русская журналистика и сцена на подозрении... В 1866 году Каракозов стреляет в царя - и снова будто ледяным порывом Борея обдает всю русскую литературу. А между этими двумя высшими точками реакции - сколько еще оттепелей и заморозков, резких перепадов температур! И за все в ответе искусство.
В 1863 году неожиданно был запрещен к представлению "Минин". Островский долго не мог опомниться и понять, как это получилось. В самом деле, хроника его была признана благонамеренной, более того, он впервые в жизни получил за нее подарок от царя - бриллиантовый перстень. Правда, вся эта история с перстнем была подстроена его доброжелателями, а сам царь драму, скорее всего, не читал.
"Минин" был напечатан в "Современнике", и в тяжкую пору гонений на передовую журналистику его издателям было важно показать, что они печатают сочинения, удостоившиеся монаршей милости. Вероятно, И.И. Панаев проявил тут некую инициативу. Недавно назначенный министром просвещения, либеральный сановник А.В. Головнин хотел понравиться литераторам и запросил Панаева об Островском. "Мне нужно, - писал он, - обратить внимание государя на его превосходную драму "Козьма Минин" и при этом рассказать все, что могу хорошего, об авторе".
Островский ожидал невесть каких милостей и был разочарован, когда получил из кабинета его величества перстень стоимостью в пятьсот рублей и переданное на словах поощрение. Брату в Петербург он написал доверительно, что "не ожидал такого пошлого конца".
Возможно, ему надо было меньше откровенничать в письмах: сводки выборочной перлюстрации "черного кабинета", находившегося в подвале петербургского почтамта, регулярно доставлялись на стол царю. Так или иначе, но поощренная в феврале 1862 года царским подарком драма "Минин" в октябре 1863 года была запрещена. На благожелательном рапорте цензора Нордстрема, в котором отмечалось, что "неизбежный в этой драматической хронике демократический элемент уступает религиозным мотивам и покрывается высокой целью этого народного движения: восстановления государственного строя России на монархическом начале...", появилась странная резолюция начальника III Отделения Потапова:
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:12 | Сообщение # 34 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 291
Статус: Offline
| "Вследствие... объяснения с г. Министром императорского двора - запретить".
Ходили слухи, что пьеса запрещена по опасению, как бы она не оказалась созвучна событиям в Польше и не возбудила бы чрезмерно публику - за или против восставших поляков. Но кто может знать, о чем объяснялись наедине министр двора Адлерберг с начальником III Отделения. В "стране канцелярской тайны", как назвал Герцен Россию, многое решалось устным разговором при плотно притворенных дверях и не оставляло следа на бумаге.
"Минин" запрещен! - негодовал в письме Островскому Бурдин. - Я сейчас из Цензуры - это дело вопиющее - в рапорте сказано, что пиеса безукоризненно честная, исполнена искренних, высоких и патриотических идей - и все же запрещена - почему, этою никто не знает!
Стыд тебе, позор, бесчестье на всю жизнь, если ты это дело оставишь так! Лучше разбить чернильницу, сломать перья, отказаться от всякой деятельности, чем переносить такие интриги и несправедливости!
Вот мое мнение. Действуй энергически, будь мужем, докажи, что с честным трудом нельзя так обращаться - и твое дело выиграно, я головой моей отвечаю! Приезжай немедленно сюда, путей для хода дела много, справедливость и, стало быть, сила на твоей стороне. Ты удостоился за эту пьесу подарка от Государя ИМПЕРАТОРА, иди до конца, разрушь раз навсегда эту интригу - хотя бы дело дошло до прошения на Высочайшее имя. Что за несчастная русская сцена - ты единственное лицо, которым она дышит, и с тобой так поступают. Это невозможно ни с кем и нигде!"
Островский откликается на этот призыв, приезжает в Петербург, ходит по приемным, поднимается по высоким лестницам, но ничего не может добиться: перед ним стена. "Минин" был разрешен лишь три года спустя, да и то в сильно переделанном виде. А в 1866 году Островскому пришлось пережить цензурные неприятности с "Пучиной". И Бурдин, еще недавно так горячо призывавший его добиваться справедливости "на верхах", заметно скис и приуныл: "Вообще, нужно тебе с большим огорчением объяснить, - пишет он на этот раз, - что Высшие сферы не благоволят к твоим произведениям, как я узнал вчера из слов Павла Степановича; к тому же строгости цензурные вышли из всяких пределов, хуже чем было в старое доброе время - дошло до того, что "Пучина" возбудила в Начальстве громадное неудовольствие и ее боятся давать, все что было мало-мальски со смыслом запрещено Цензурой и на сезон решительно нет ничего!"
Сверху шли недобрые веяния, и Островский начинал теряться: что писать, как работать? Лицемерие состояло в том, что запретных для искусства тем никто вслух не объявлял: все можно и ничего нельзя. Как в старинной эпиграмме Державина:
Поймали птичку голосисту
И ну сжимать ее рукой.
Пищит бедняжка вместо свисту,
А ей кричат: пой, птичка, пой!
Но что можно пропеть в столь неудобном положении? Бытовая пьеса, пьеса "с тенденцией" под нажимом цензуры быстро мельчала, и это как бы компрометировало сам жанр. К началу 60-х годов тихо сошла со сцены мелодрама ("Теперь об "Извозчиках", "Розовых павильонах", "Парижских нищих" и тому подобных прелестях нет уже и помину", - писал в 1863 году Баженов). И так же вдруг подалась и отступила на афише в середине десятилетия современная бытовая комедия, оттесненная, с одной стороны, легкомысленной опереткой, с другой - исторической драмой.
Репертуар 1865-1867 годов формировался так, что гимназистов, говорили остряки, вполне можно было освободить от уроков истории. Одна за другой появлялись пьесы "Мазепа" А. Соколова, "Князь Серебряный" Доброва, "Смерть Иоанна Грозного" А. К. Толстого, "Мамаево побоище" Д. Аверкиева... Историческая драма должна была возместить в репертуаре умершую трагедию, а вошедшая с 1865 года в бешеную моду оперетка - былой французский водевиль. На оперетку с канканом, эпидемией охватившую обе столицы, стекались паномаженные франты и краснощекие старички, любители "землянички",- так что дирекция императорских театров была удовлетворена: сборы обеспечены.
Что оставалось Островскому? Попробовать все же отвоевать себе место в историческом жанре. Для него это был и отход от современности и возвращение к ней с заднего крыльца. Его интересовала пора Грозного и время Смуты - эпоха сильных, энергических характеров, действия, а не состояния, как тонко заметил Гончаров. Кроме того, еще недавно цензура запрещала изображение на сцене царствующих особ. Теперь этот запрет был снят и открывались возможности попробовать силы в жанре хроники, излюбленной Шекспиром.
Вслед за "Мининым" Островский написал драму в стихах из жизни XVII века "Воевода, или Сон на Волге". В ней были поразительно удавшиеся страницы, и, прочтя ее, Тургенев воскликнул: "Какая местами пахучая, как наша русская роща летом, поэзия! Ах, мастер, мастер этот бородач!" Но по мысли пьеса была вещью компромиссной: насильника и сластолюбца воеводу Шалыгина, обижавшего народ, смещала законная царская власть; так поступали с проштрафившимся губернатором 60-х годов. И лишь на втором плане, в теме "сна", развивался мотив народного возмездия, лихой волжской вольницы; Роман Дубровин, оскорбленный Шалыгиным и возглавивший ватагу справедливых разбойников, топил воеводу в Волге.
За "Воеводой" (1865) последовали хроники "Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский" (1866) и "Тушино" (1867). На "Самозванца" Островский возлагал особые надежды. "Хорошо или дурно то, что я написал, я не знаю, - объяснял он Некрасову, - но во всяком случае это составит эпоху в моей жизни, с которой начнется новая деятельность; все, доселе мною писанное, были только попытки, а это, повторяю опять, дурно ли, хорошо ли, - произведение решительное".
Сгоряча, пока работа не остыла, Островский часто считал, что написал лучшее в своей жизни сочинение. Широкий план, напоминавший пушкинского "Бориса Годунова", психологически сложная фигура Самозванца сообщали хронике заметные достоинства, но "произведением решительным" она не стала. Да и с постановкой "Самозванца" на сцене произошла досаднейшая заминка, подтвердившая еще раз, что в Петербурге автора недолюбливают.
Когда Островский заявил эту пьесу, выяснилось, что на тот же сюжет уже написана драма Н.А. Чаева и дирекция решительно не желает брать на себя сомнительный расход второй, сходной по теме постановки. Историческая драма требовала костюмов, декораций, а как раз на это театральная дирекция была особенно скупенька: начинались разговоры об экономии, невозможных затратах и т. п.
Актеры привыкли играть в осыпавшихся декорациях, ветхих костюмах. Драматической сцене в Петербурге полагался один пейзажный задник, изображавший, согласно сценарию, то лес, то луг, то сад; один "бедный" павильон - желтый, и один "богатый" - красный, с соответственным набором мебели. Несложными перестановками "желтый" павильон превращался то в каморку швеи, то в комнату трактира, то в крестьянскую избу, а "красный" служил попеременно светской гостиной, дворцовым покоем, приемной вельможи. То же и в московском Малом. Комнаты на сцене, возмущался Баженов, меблируются обыкновенно самым неестественным образом, как-то условно, традиционно, "будто по какой-то формуле". На первом плане неизменно диван с гнутой спинкой, перед ним стол, сбоку сцены - тоже стол при нескольких стульях... Не только зрителям, но и актерам нужно было большую тягу воображения, чтобы естественно жить на сцене в этих надоевших, служивших годами, если не десятилетиями, декорациях.
Вот почему изготовить новый павильон и костюмы для исторической пьесы казалось событием.
Островскому было отказано. Но в этом отказе он не зря увидел некоторую обидную пренебрежительность: театральная дирекция предпочла ему Чаева. Доходили слухи, что экономный немец, граф Борх, был против него, да и московская театральная контора не прочь была "сдьяволить".
С московскими чиновниками, находившимися внизу казенной чугунной лестницы и подпиравшими ее основание, Островский не сумел жить в мире и согласии. Несмотря на все прошлые недоразумения с Верстовским, он много раз на дню поминал его теперь добрым словом. Драматург с сокрушением наблюдал, как падает год от году прежняя художественная дисциплина, разрушается ансамбль исполнения.
В 60-е годы в Малом театре появился новый роскошный занавес, вместо масляных ламп на крюках в зрительном зале засияли газовые рожки, из Парижа выписали люстру, в которой можно было по надобности усиливать и ослаблять свет... А искусство актеров не только не двинулось вперед, но пошло вспять. В труппе начались недовольства. Пров Садовский в 1863 году объявил, что уходит из театра. Его едва уговорили остаться.
Преемником Верстовского первые годы был Леонид Федорович Львов, брат сочинителя гимна "Боже, царя храни". Сам музыкант, он увлекался оперой, заботился об улучшении постановочной части. Репертуаром ведал при нем водевилист князь Г.М. Кугушев, получивший прозвище "пуховая перина"... наверное, уж не за избыток энергии. Человек светский, пустоватый, безвольный, он не симпатизировал пьесам "с зипунами", и положение Островского в театре стало более шатким: он уже не приходил сюда, как прежде, на все репетиции, за делом и без дела, будто в родной дом. Его отвращала некомпетентность начальства: по уму, образованию и благовоспитанности чиновники конторы стояли теперь много ниже артистов.
"Дворянин, кандидат Московского университета, - возмущался Островский, - покойный В.И. Родиславский отвратительно унижался перед театр[альным] начальством и, служа в театр[альной] конторе при Л.Ф. Львове, доводил свое холопство до высших степеней цинизма. Про него известен следующий анекдот: Львов, сидя в своем кабинете, где был и Родиславский, и желая позвать смотрителя за сборами Малого театра Киля, громко закричал: "Киль!" Родиславский, которому показалось, что Львов закричал ему, как легавой собаке "пиль!", вскочил с места и заметался по кабинету, ища предмета, который требовалось подать Львову, как поноску. Для всех, не знавших коротко Родиславского, этот анекдот должен показаться совершенно невероятным; но из лиц, близко знакомых с покойным Вл. Ив., немногие усомнятся в его правдивости".
Львов был снят после неожиданной ревизии, обнаружившей большие прорехи в театральном бюджете, - он щедро субсидировал пышные оперные постановки. Но когда он ушел, и о нем пожалели, потому что на смену ему шла уже вовсе случайная чиновничья мелкота. То, с чем раньше управлялся один Верстовский с немногими помощниками, было поделено между чиновниками разных рангов. Управляющие и контролирующие лица плодились как грибы в сырую погоду.
Сухой и корректный Н.И. Пельт в золотых очках, с зализанными волосами, тщеславный и черствый человек, насадивший в театре стиль докладных, рапортов, циркуляров, всю премудрость строгой отчетности, при которой испаряется художественная суть дела.
Красавчик В.П. Бегичев, светский лев с обворожительной внешностью, бархатистыми голубыми глазами, сводившими с ума дам; он любил, чтобы актеры развлекали его анекдотами.
Л.Обер - старый николаевский бюрократ.
"Закружились бесы разны, словно листья в октябре...". Теперь чиновники назначались в театр со стороны, по случайной светской рекомендации, оттого, что надо пристроить человечка, в рассуждении, что уж чем-чем, а театром может управлять всякий: кто не бывал на спектаклях и не судил игру актеров?
Художественный элемент в управлении театрами был заменен чиновническим, подводил итог этим переменам на московской сцене Островский и перечислял тех "специалистов", с которыми ему теперь приходилось иметь дело:
"После Верстовского вступил в управление художественной частью сначала чиновник упраздненного казенного лосиного завода Пороховщиков, потом служивший в театральной конторе переводчиком для перевода контрактов с иностранцами Пэльт, потом смотритель дома Благородного собрания Бегичев и, наконец, служащий конторщиком на железной дороге Погожев...".
Вчера еще свалившийся с потолка и растерянно озиравшийся в театральных зеркалах чиновник на другой же день, слегка оправившись от первого испуга, составлял репертуар и учил актеров играть. Островский должен был появляться теперь на репетициях своих пьес украдкой, а на представления чужих пьес вовсе перестал ходить. Когда случилась неприятность с "Самозванцем", Островский написал письмо министру двора Адлербергу, пытаясь по праву справедливости испросить постановку в Москве, раз уж Петербург для него потерян, и после долгих проволочек добился разрешения. Но радости победы не испытал.
В сокрушенном состоянии духа от постоянных трений с чиновниками, запретов, неудач и полуудач, он написал в сентябре 1866 года горестное письмо Бурдину, в котором уже вторично, и на этот раз более решительно, заявлял о своем намерении расстаться со сценой.
"Объявляю тебе по секрету, - писал Островский, - что я совсем оставляю театральное поприще. Причины вот какие: выгод от театра я почти не имею (хотя все театры в России живут моим репертуаром) ; начальство театральное ко мне не благоволит, - а мне уж пора видеть не только благоволение, но и некоторое уважение; без хлопот и поклонов с моей стороны ничего для меня не делается; а ты сам знаешь, способен ли я к низкопоклонству; при моем положении в литературе играть роль вечно кланяющегося просителя тяжело и унизительно. Я заметно старею и нездоров". Островский говорил, что не станет более писать современных пьес, а только пьесы из русской истории, и то не для сцены. "Таким образом, постепенно и незаметно я отстану от театра", - уговаривал он сам себя.
Бурдин не находил места от огорчения, уговаривал друга не горячиться и протестовать, но только не оставлять театр. Островский внутренне то соглашался с ним, то снова впадал в уныние. Но в конце концов решил: нет, не уходить надо из театра, а бороться за него, за свои права драматического писателя. "Положись на меня, - писал он Бурдину три года спустя, - я свою решимость бороться за искусство энергически довел до полного спокойствия, меня теперь не возмутишь ничем".
Еще в 1863 году, вскоре после приснопамятного инцидента с Литературно-Театральным комитетом, он напечатал в газете "Северная пчела" небольшую статью, озаглавленную "Обстоятельства, препятствующие развитию драматического искусства в России".
Не зря он когда-то сидел составителем прошений в суде: деловую бумагу Островский умел составить убедительно и толково. Докладной запиской о театре и была, по существу, его статья. В ней он сетовал на бедность и пустоту репертуара русской сцены, а причины этого находил: во-первых, в утеснительных действиях цензуры, которая уж столько раз находила вредное и опасное там, где "нет ничего ни вредного, ни опасного"; во-вторых, нещадно бранил Федоровский комитет, где "пропускаются самые пошлые водевили и не проходят умные и дельные пьесы"; в-третьих, говорил о нищенском вознаграждении драматургов, не получающих ни гроша с антрепренеров, которые ставят их пьесы в провинции.
Все эти мысли созревали у Островского постепенно и сильно подгонялись личной нуждой. Каждая не поставленная пьеса пробивала брешь в бюджете его семьи, и он вечно был в долгах. Горько было смотреть и на поругание искусства.
В 1867 году сухого, сановного Борха сменил на посту директора театров Степан Александрович Гедеонов, и у Островского мгновенно заклубились надежды. Гедеонов-младший когда-то помог ему с разрешением "Саней", и теперь, желая закрепить знакомство с новым директором, Островский по его сценарному плану в течение шести недель написал пьесу "Василиса Мелентьева", которую можно было считать их совместной работой. "Искушением от Гедеонова" называл Островский эту драму. Кстати, в переработке Островского пьеса приобрела неожиданную политическую остроту. Актерам она импонировала сценической эффектностью ролей, нравилась публике. Но не вызвала восторга у тайных соглядатаев. Оставшийся неизвестным нам по имени секретный агент III Отделения беспокойно ерзал в своем кресле на премьере Александринки, а вернувшись домой, тотчас строчил но начальству: "Вчера, в бенефис актера Григорьева 1-го, шла в 1-й раз новая драма Островского "Василиса Мелентьева". Несмотря на свои неотъемлемые достоинства в сценическом отношении, драма эта с точки зрения общественной представляет явление, обращающее на себя внимание. Не имея еще под рукою текста, нельзя указать на отдельные места, производящие тяжелое впечатление; но тем не менее нельзя не остановиться на главных сценах и некоторых выражениях. Так, в 1-м действии сцена в Думе рисует Иоанна Грозного в таком мрачном свете, который едва ли уместен на сцене. Отношения царя к Мелентьевой выставлены цинично, а в последнем действии они имеют даже комический характер: вряд ли прилично показывать публике царя только чувственным, сладострастным стариком, почти беспрекословно подчиняющимся прихоти смеющейся над ним женщины. Сцена, когда Иоанн вонзает свой жезл в ногу Андрея Колычева, положительно возмутительна... До сих пор нигде еще Иоанн Грозный не представлялся до такой степени низведенным с той высоты, в которую веками поставлено царское достоинство. Такое выставление на позор домашней, интимной жизни царей не может не поколебать уважение к царскому престолу и, в особенности, к царскому сану, - уважения, которое до сих пор составляет отличительную черту русского народа".
На первых порах пьеса была защищена влиятельной фигурой соавтора Островского. Свеженазначенному директору разрешалось "пошалить", впрочем, в разумных пределах. Сын Гедеонова лелеял либеральные перемены в театральном деле. Это был образованный, учтивый господин нового поколения, с традиционными бакенбардами на молодом лице и еще курчавой головой, со спокойными, но несколько безжизненными глазами. Свою должность главы театров он совмещал с управлением Эрмитажем, как и его предшественники, предпочитал драме оперу, но, в отличие от них, был неглуп, скромен и с уважением относился к заслугам Островского перед русской сценой. К несчастью, ему ненадолго хватило энергии и сочувствия к театральным реформам. Министр Адлерберг раз-другой остудил его молодой жар, и Гедеонов уже не рискнул покровительствовать сомнительным начинаниям. А как было возликовал Островский, узнав о назначении Гедеонова!
Поощренный ласковостью нового директора, он мгновенно загорелся прежними идеями, составил записку об авторских правах драматических писателей и повез ее в Петербург. В записке неопровержимо доказывалось, что авторское право драматического писателя следует охранять, иначе страдают не только его интересы, но я интересы публики. Провинциальные антрепренеры пользуются бесплатно и бесконтрольно трудом драматурга и насаждают в театре и актерах "рутину и беззастенчивость".
Молодой Гедеонов ласково улыбается ему. Наконец-то, наконец его услышат!
Но вторая встреча с вельможей, спустя год после первой, была одним разочарованием. Островский только разбежался объяснить ему все в подробностях и представить тщательно обдуманные соображения, как был прерван. Его не хотели более слушать. "Я так мало имел времени для объяснения с Вами и нашел неожиданно такую перемену в Вашем превосходительстве в отношении, - писал потом Островский, - что чувство горечи, ощущаемое при сознании правоты от всякой несправедливости, и тот непонятный конфуз и столбняк, который находит на всякого правого человека при виде, что его честность заподозрена, мешали мне высказаться перед Вашим превосходительством вполне".
А он хотел рассказать Гедеонову, что, верно служа русскому театру полтора десятилетия, он не обеспечен, как в юности, и не знает, будут ли у него деньги хоть на месяц вперед; о том, сколько сделал он для русской сцены и как автор тридцати оригинальных пьес и как режиссер, создавший в Москве школу "естественной и выразительной игры"; и о том, что репертуар составляется случайно, по выбору полуобразованных бенефициантов - то Кальдерон, то "Фауст", а то и капкан в современной пьеске; и о том, что труппа в Москве стареет и вымирает - нет трагика, а в ролях бояр выходят какие-то лилипуты по голосу и росту... Это ли не позор? Он хотел говорить об оскорблениях, нанесенных ему как человеку и писателю произволом репертуарного начальства, о падении художественной дисциплины. Снова хотел грозить, что уйдет из театра, хотя и чувствовал, что никого этим не испугаешь, и сам уже не верил своим угрозам...
Но на лице либерального сановника вдруг промелькнуло жесткое и досадливое выражение, что-то от его крепостника-отца, и он обдал драматурга таким холодом, что тот почувствовал себя назойливым просителем и язык его "прильпе к гортани".
Вернувшись в Москву не солоно хлебавши, Островский изложил свой непроизнесенный монолог в горячем, взволнованном письме Гедеонову. Там были такие предерзостные слова: "Кланяться да бегать, льстить начальству я никогда не умел; говорят, что с летами, под гнетом обстоятельств, сознание собственного достоинства исчезает, что нужда научит калачи есть, - со мной благодарение богу, этого не случилось".
Островский не умел льстить начальству, но и дерзить не умел. Если он заговорил так, то не от личной обиды только. От сознания, что за его спиной стоит русский театр, русская литература.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 28.02.2015, 21:49 | Сообщение # 35 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 291
Статус: Offline
| ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
РЫЦАРЬ ТЕАТРА
НА ОМУТЕ
И вот жаркий день июня 1867 года. Драматург наш с удочками на плече спускается крутой тропой от дома к речушке Куекше. Он выглядит постаревшим, усталым, его мучит ранняя одышка. На омуте, у старой мельницы - любимое его место. Он устраивается поудобнее, забрасывает леску и часами глядит на поплавок. Темная вода неподвижна. Лишь выше, у запруды, свивается светлыми жгутами и журчит чуть слышно... И долгой чередой думы, воспоминания недавних лет проходят перед ним - лет трудных, горьких и как бы переломивших надвое всю его жизнь.
Когда он собирался на этот раз в имение мачехи, Щелыково, чтобы убежать из Москвы, отвлечься от всего тяжелого и обдумать в тишине, что же все-таки с ним случилось, он решил вести подневный "журнал", давно им заброшенный.
Дневник этот сохранился. В нем записи о трех вещах: погоде, рыбной ловле и домашних занятиях. Погода стояла переменчивая. Рыба брала вяло: плотвицы, окуньки. Труды состояли из переводов с итальянского, переделки с французского и двух оперных либретто. К крупным замыслам, оригинальным пьесам душа не шла, руки не лежали. Прошлый сезон оставил по себе дурную память - неудачей "Тушина", возней вокруг постановки "Самозванца". Болели грудь и плечи. Ничего не хотелось. К дневнику он принуждал себя.
10 [июня]. Встал в 6 час. Ветер, ясно. Ловил в омуте, поймал щуку и 3 окуней, одного большого. Писал либретто Серову, переводил итальянскую комедию. 4 часа. Весь день сильный ветер.
11 [июня]. Воскресенье (Ярилин день). Встал в 8 часов. Ясно, ветер. Писал либретто Серову. В 1 час небольшой дождь с ветром. Вечером ходил гулять.
12 [июня]. Встал в 8. Погода серая, потом разгулялось. Ловил на омуте, одного окуня большого (вода мутна). После обеда переводил комедию итальянскую и писал Серову..." и т. д.
Он вел этот дневник будто намеренно скучно и скупо, чтобы ни в одном слове не прорвалась та душевная сумятица, какою он был охвачен. Но, механически следя глазами за поплавком, поправляя леску, он в сотый раз переворачивал в голове то, что произошло в его жизни, тщательно скрытой от глаз публики, с 1863 года и оборвалось этой весной - смертью Агафьи Ивановны.
Островского познакомили с Марьей Васильевной Бахметьевой когда она только-только заканчивала театральное училище. 16 мая 1863 года под именем Васильевой 2-й она вступила в труппу Малого театра - восемнадцатилетнее, хорошенькое созданье. Крупных успехов по сцене, в отличие от своих подружек по школе - Н.А. Никулиной и Г.Н. Поздняковой (Федотовой), оказать она не обещала, но была мила, приветлива, свежа и хороша собой.

Он увидел ее в первый раз, когда она играла цыганку в "живых картинах", - двигалась легко, изящно и была очень красива южной, смуглой красотой. Писемский называл ее "персиянкой". Красота такого типа не стойка, минуча. С более позднего портрета глядит на нас простоватое лицо: низенький лоб, открытый взгляд под ярко очерченными бровями, крупные губы, волевой подбородок. Но смолоду она была привлекательна, любила эффектно одеваться и в розовом платье, с ниткой жемчуга в черных, как смоль, волосах производила яркое впечатление.
"Милочка Маша, жди меня в середу в сумеречки", - приписал как-то Островский к письму Горбунова Марье Васильевне. Вероятно, его роман с Васильевой скоро перестал быть тайной для его ближайших друзей - Горбунова, Бурдина. Все они издавна знали Агафью Ивановну, почитали и любили ее, но к увлечениям друга относились снисходительно. А Островский, еще не переживший отказа Косицкой, и сам не заметил, как снова закружился, потерял голову.

Биограф Островского С.Шамбинаго впервые обратил внимание на некие недомолвки, встречающиеся в 1864 году в письмах Бурдина своему приятелю. В начале года Бурдин писал Островскому, явно еще ни о чем не ведая и не догадываясь: "Ждем тебя, если вздумаешь привезти Агафью Ивановну (мой душевный поклон ей), то остановитесь с ней у меня, помещение, слава богу, есть, а мы с Анной Дмитриевной будем сердечно рады". Но с осени 1864 года Бурдин почему-то начинает выражаться в письмах темнее и загадочнее: "Поклон мой твоим" (28 сентября); "Мой поклон всем вашим" (6 октября); "Поклонись твоим" (10 октября). Он многозначительно подчеркивает эти слова, будто говорит о чем-то им двоим понятном. И еще, опять с подчеркиванием: "На случай приезда в Петербург - моя квартира к услугам".
В одном из ответных писем Островского упоминается о Марье Васильевне как о хорошо знакомом Бурдину человеке: "Мш. (т. е. Маша) все не очень здорова" (октябрь 1864 г.). Приходится предположить, что весною или летом 1864 года Островский побывал вместе с Марьей Васильевной в гостях у Бурдина - либо в Петербурге, либо, что более вероятно, в деревне.
Зазывая этим летом своего московского друга в Киришу на Волхове, где у него было небольшое имение, Бурдин писал: "...с нетерпением ожидаю тебя, пожалуйста не стесняйся, все для твоего приезда приготовлено, Леонидова тебе нечего церемониться и стесняться, да его еще нет, да, вероятно, он и не приедет, Фурмалео находится налицо, это тоже свой человек, да людей не близких я не приглашал" (6 июля 1864 г.)
После недавней публикации коллективного письма Марье Васильевне Островской от Горбунова, Европеуса и четы Бурдиных, где А.Д. Бурдина подписалась "Киришская помещица", а П.И. Европеус - "Ваш Волховский содачник", можно считать установленным, что Островский побывал этим летом в Кирише, и не один. Это было время их начальной счастливой близости. Во всяком случае, первое дошедшее до нас письмо Островского, отправленное "милочке Маше" из Щелыкова, датировано 15 мая и очень нежно по тону, а в следующем письме он назначает ей встречу в Москве 15 июня; после этого вся их переписка прерывается до сентября. Но легко догадаться, где провел он вторую половину лета (Письмо Бурдина - Островскому от 26 июня из Кириши (см.: "А.Н. Островский и Ф.А. Бурдин. Неизданные письма". М. - Пг., 1923, с. 35), условно отнесенное редактором к 1865 году, следует датировать также 1864 годом. В этом письме Бурдин заманивает Островского в Киришу, между прочим, и веселой компанией: "...на весь июль приедет Фурмалео, приедет Леонидов и lругие приятные собеседники". Очевидно, в ответном, не дошедшем до нас письме Островский извещает Бурдина, что приедет не один, и сомневается, удобно ли это. Оттого Бурдин 6 июля и уговаривает его: "Леонидова тебе нечего церемониться и стесняться", Фурмалео "тоже свой человек".
Перед самым Новым годом, 27 декабря, у Марьи Васильевны родился сын, нареченный Александром: молодая мать, по-видимому, выразила желание назвать его в честь отца. А еще спустя полтора года, 15 августа 1866 года, появился на свет второй мальчик, названный Михаилом - не в честь ли младшего брата драматурга?
Марья Васильевна быстро проявила свой характер - страстный, ревнивый, требовательный. Она не отпускала от себя Островского, плакала, упрекала, мучила напрасными подозрениями. "Милочка Маша, напрасно ты, мой ангельчик, беспокоишься, - пишет он ей 25 января 1865 года. - Я затем и живу в Петербурге, чтоб устроить дела как можно лучше". Этим объяснениям Марья Васильевна не внимала. Совершая летом 1865 года поездку по Волге в компании Горбунова, Островский шлет ей регулярные отчеты из каждого города, но это не спасает его от упреков в невнимании. В его письмах звучат нотки оправдания: "Милочка Маша, я тебе пишу из каждого города, а ты жалуешься на мою беспечность". Но письма его, чем дальше, тем принужденнее, короче, лишь с самыми необходимыми словами и торопливыми утешениями "милочки Маши". Он боялся ее нервности, требовательности, неожиданных припадков беспричинной ярости. Без нее он порою скучал, с нею - чувствовал себя одиноким.
Агафья Ивановна все знала, обо всем догадывалась: да, скорее всего, он сам рассказал ей все, как есть. Нечего и говорить о тайном ее горе. История с Косицкой надломила ее, прежняя, казавшаяся тихой идиллией жизнь была убита. Но когда Косицкая отвергла Островского, Агафья Ивановна приучила себя думать, что еще нужна ему как друг, как хозяйка его дома. Появление Марьи Васильевны лишило ее жизнь смысла.
Но сам-то Островский чувствовал, что как бы ни сердилась на него Маша, он не в силах оставить Агафью Ивановну, и особенно теперь, немощную, несчастную. Он беспокоится о ней, жалеет ее и испытывает непроходящее чувство вины перед нею. Своего приятеля Дубровского он просит в письме из той же волжской поездки 1865 года "сходить к Николе Воробино и исследовать, в каком состоянии здоровье Агафьи Ивановны, насколько процветает сад и все прочее, и немедленно уведомить меня".
Островский удручен горькой двусмыслицей положения, в какое поставила его судьба. Ведь всегда он верил и писал, что любовь права, но и семья свята, что надо жить по добру и не причинять зла близким людям, никого не заставлять страдать. Так как же теперь? Может быть, оттого он так стремится уехать, хоть ненадолго, из дому - то в Нижний, то в Щелыково, то в Петербург.
Любит ли он Машу Бахметьеву? Спустя год ему, пожалуй, труднее ответить на это, чем в первые дни их знакомства. Себе он не станет лгать и понимает, что это не чувство к Косицкой, безраздельно захватившее его когда-то и заставившее просить ее руки. На этот раз он не торопится с решительным шагом, не сулит поставить ее на "пьедестал", и тем больше сердится и нервничает Марья Васильевна и тем сильнее жаждет привязать его к себе, хотя бы детьми. В театре она играет редко, то недомогания, то беременности, и Островский, превозмогая себя, пишет за нее инспектору Бегичеву оправдательные письма.
Странно, но упоминания об Агафье Ивановне и настойчивые поклоны ей, прекратившиеся в письмах Бурдина осенью 1864 года, вновь возвращаются весною 1865 года. "Наши кланяются тебе и Агафье Ивановне" (Апрель 1865 г.); "Что Агафья Ивановна?" (2 сентября 1865 г.); "Передай мое душевное пожелание доброго здоровья Агафье Ивановне" (18 марта 1866 г.). И Островский отвечает ему как ни в чем не бывало, по-семейному: "Любезнейший друг, мы с Агафьей Ивановной, зная твою аккуратность, были в большом недоумении, отчего ты не отвечаешь на письмо мое..." А в сентябре 1866 года Островский извещает Бурдина, что не может приехать в Петербург, потому что "Агафью Ивановну, безнадежно больную, я не могу оставить даже на один день...".
По-видимому, Агафья Ивановна хворала не первый месяц. Считалось, что у нее открылась "водянка". Но Островский-то себя винил в ее болезни: ведь наши недуги так часто усилены и вкоренены глубоким нервным потрясением.
С осени 1866 года, когда Агафье Ивановне стало особенно худо, Марья Васильевна словно исчезла из его жизни: ни одного упоминания, ни одного письма. Он проводил бессонные ночи у постели больной своей подруги и с ужасом убеждался, что она слабеет день ото дня. О чем говорили они в эти последние недели, проведенные вместе? Кто знает. Но только он места себе не находил, чувствовал, что сам заболевает. "Я сам старею и постоянно нездоров", - писал он друзьям. "И нездоровится, и тоска"; "Здоровье мое из рук вон плохо"; "Я едва держу перо в руках" - такими признаниями заполнены его письма.
Все это тяжкое время днюет и ночует в его доме старый артист Иван Егорович Турчанинов, вечный компаньон по рыбной ловле на подмосковных прудах и речках. Иван Егорович, недавно уволенный Львовым из Малого театра, помогает ему ухаживать за больной и вообще скрашивает его дни. Бурдин зовет Турчанинова приехать к нему в Петербург, но Островский умоляет Бурдина: "Не отнимай его у меня, я в таком положении, что мне нужны близкие люди, а могу быть в еще худшем". И, по-видимому, в полной душевной разрухе он уговаривает самого Турчанинова не оставлять его одного, предчувствуя, что Агафье Ивановне остается жить считанные дни. "...Неужели он не видит,- жалуется на Ивана Егоровича Островский, - что меня может постигнуть одиночество и тогда он будет мне необходим, чтобы не дать мне сойти с ума".
Агафья Ивановна умерла шестого марта 1867 года. Похоронив ее, Островский горевал безутешно. Теперь, когда ничего нельзя было поправить, еще яснее открылось ему, как крепко душевно связан он был с этой женщиной. Весь мир его дома, его бедственную молодость, его счастливые труды, его дружеский круг, его первые удачи и невзгоды - все она с ним делила. За открытый, прямой нрав друзья прозвали ее Марфой Посадницей. Но была в ней и такая бездна бескорыстной, кроткой, материнской и женской любви к нему, что горло перехватывало при одном воспоминании.
За долгие месяцы болезни она увяла, пожелтела, но вспоминалась ему теперь молодой, белозубой, хохотуньей, певуньей, речистой девицей, какой он когда-то впервые ее увидел. И как сердился за нее отец, а ведь понапрасну! Вспоминалась ее мягкость, улыбчивость, ее кроткое терпение, уют и покой в доме, где добром встречали любого гостя; ее любимые словечки и приговорки, ее природный такт и обходительность, какая бывает порой у совсем простых женщин. Как, в сущности, мало удалась ей жизнь - невенчанной жены, вечно на кухне или с шитьем, вечно за занавесками. Да еще дети на их беду не жили - уходили в могилу один за другим в раннем младенчестве. Хилый здоровьем гимназист Алексей ненадолго пережил мать. И теперь, сидя над вечереющим, предзакатным, с черно-золотыми бликами омутом и глядя на чуть колышащийся поплавок, Островский перебирал в памяти дни и годы, проведенные с ней, и последнюю тяжкую зиму. То корил, то пытался оправдать себя в том, что произошло, и минутами впадал в отчаяние. Как он почувствовал вдруг свое одиночество! Зазывал друзей непременно навестить его этим летом в Щелыкове и обижался, что не едут...
"Я больной, разбитый душевно и телесно, просил, как милости, не оставлять меня одного, - выговаривал он Бурдину, - я предлагал всякому ехать ко мне в деревню или куда угодно, ездить все лето на моих издержках, и все меня обманули; один только Горбунов приехал на пять дней. Неужли я постоянными услугами и угождениями не успел заслужить любви артистов и вообще лиц, окружающих меня. Мне это горько!"
А где же была в то время, как Островский жаловался на самоубийственное одиночество, Марья Васильевна, "милочка Маша"? Нет, она вовсе не пропала с его горизонта и появилась вновь, вероятно, вскоре же после смерти Агафьи Ивановны, а вернее, и не исчезала никогда. Спустя какой-нибудь месяц после похорон она переехала в дом подле Николы-Воробина с двумя детьми и матушкой. Но почему-то по весне Островский не звал ее с собою в Щелыково и только аккуратно отправлял из деревни короткие, в несколько строк, извещения о том, что он жив и благополучен. Она просила его скорее вернуться в Москву, чтобы повидаться, а он отвечал рассудительно: "И мне тоже временем бывает скучно, да что ж делать! Надо потерпеть! Здоровье мое расстроено было совершенно; я чувствую, что деревня мне полезна, я могу поправиться". По-видимому, общение с Марьей Васильевной от одиночества его не спасало.
Но в конце 1867 года она родила ему дочь - по принятому обычаю ее назвали Мария, в честь любящей супруги. А еще спустя год Марья Васильевна затеяла перестройку всего Николо-Воробьинского гнезда. Ее мать, энергичная, деловая женщина, взялась наблюдать за работами, ссорилась с подрядчиком и, пока Островский с Марьей Васильевной жили в Щелыкове, переделывала осевший, облупившийся, давно не чищенный дом: кухню перенесли наверх, прорубили внутреннюю лестницу на второй этаж, внизу заново устроили две просторные комнаты, переделали старое крыльцо, наклеили свежие обои. Память об Агафье Ивановне должна была исчезнуть - новая жизнь начиналась в этом доме.
12 февраля 1869 года Островский обвенчается в церкви с Марьей Васильевной Бахметьевой и начнет хлопотать о том, чтобы усыновить прижитых с нею детей. Он будет долго колебаться, прежде чем решится на это, тысячу раз вспомнит Агафью Ивановну, прожившую с ним невенчанной почти двадцать лет и никогда не укорившей его за это, будет советоваться с братом, Михаилом Николаевичем, который рассудительно ответит ему:
"Ты спрашиваешь моего совета о том, как тебе сделать детей твоих законными. Но ты, конечно, сам знаешь, что для этого надо прежде всего жениться на их матери. Таким образом, все сводится к вопросу: жениться ли тебе на Марье Васильевне?" И дальше Михаил Николаевич пустится в осторожные рассуждения: "В женском характере бывают иногда такие неудобные для жизни женатых черты, развитие которых только и сдерживается зависимостью от мужчины, с которым женщина живет. При замужестве же эти черты развиваются иногда до невыносимых размеров. Но, с другой стороны, при ненормальных и зависимых отношениях к мужчине характер женщины иногда портится и хорошие стороны его не только не развиваются, но и вовсе погибают. Характер Марьи Васильевны мне неизвестен со всех сторон, и потому, с точки зрения личного твоего счастья и удобства, я никак не могу дать тебе совета: один ты в этом деле - судья и компетентный и безошибочный... Надеюсь, что ты извинишь мою искренность и не будешь претендовать на меня за мою уклончивость, а также строк этих не передашь Марье Васильевне".
Братья понимали друг друга с полуслова; не сказав ничего, Михаил Николаевич все сказал. Он не любил Марью Васильевну, понимал, что трое детей - не шутка и он тут не судья. Да в таких делах и советуются лишь для того, чтобы поступить по-своему.
Островский обвенчается с Марьей Васильевной, а спустя всего два месяца, когда, казалось бы, все домашние недоразумения и недовольства, вызываемые ложным положением в семье, должны были улечься, счастливый супруг напишет приятелю: "Здоровье мое плохо, и вообще я как-то сам не свой - по временам нападает скука и полнейшая апатия, это нехорошо, это значит, что я устал жить".
К личной стороне жизни художника, о которой он упорно и глухо молчит, надо прикасаться с деликатностью. Но смеет ли вовсе равнодушно скользнуть по ней взгляд биографа? Нет, хотя бы потому, что иначе многое осталось бы затененным, непонятым и в судьбе автора и в самом его творчестве. У Островского был свой способ понимания жизни - жизнью. Не теорией, не философией, а прожитым опытом и интуицией художника. В его пьесах поразительное знание женских характеров - в любви, ревности, обиде, отчаянии, самоотвержении. Этого нельзя было узнать с чужих слов, догадаться, подслушать. Это надо было пережить. Островский никогда не был изобретателем интриги, холодным сочинителем. Он и писать холодно не умел. "Нервы разбиты, пишу пьесу, собираю последние силы, чтобы ее кончить, - писал он, работая над "Последней жертвой". - Трогательно драматический сюжет пьесы, в который я погружаюсь всей душой, еще более расстраивает меня".
В чужих судьбах он в сотый раз переживал свою. Вспоминал, как было, догадывался, как могло быть. Объективность, способность думать за всех, а не навязывать каждому логику своего чувства, это природное человеческое качество перевоплотилось в дар драматурга. Сердцеведом нельзя стать, изучая лишь чужие сердца. Надо самому много любить и отчаиваться, надо изучить движения своего сердца. Конечно, мы не решились бы указать, где, в каких именно типах и характерах мелькнут черточки Агафьи Ивановны или Марьи Васильевны, в каком эпизоде отзовется волнение сердца самого автора. Но можно ль сомневаться, что весь его трудный личный опыт останется в волшебно претворенном виде в его пьесах? Так остается колос в краюхе хлеба, зеленое дерево - в листе бумаги.
Смерть Агафьи Ивановны будто придавила Островского, в новую жизнь с Марьей Васильевной он не торопился вступать, и тогда, в июне 1867 года, сидя на омуте с удочками, он думал, наверное, о том, что за спиною сорок четыре года, жизнь, в сущности, прошла и надо доживать ее, не теряя достоинства и спасая себя работой...
Может быть, все это легче было бы пережить, если бы широкий простор для деятельности, живое понуждение к труду, увлечение им. Но какой толк писать современную пьесу, если все равно не найдешь ей применения? Здесь, над тихой речной заводью, думалось невесело и честно, без всяких обольщений и уловок перед собою. Вершина его успеха осталась позади, он сделался никому не нужен: театру не нужен, литературе не нужен. Он так долго твердил, что оставляет театр, будет заниматься одним литературным трудом, а тут оказалось, что и печататься негде. До какого унижения дойти - отдал "Тушино" в случайный журнальчик "Всемирный труд" какому-то авантюристу Хану! Да и то сказать - Достоевский перестал издавать журнал, у Некрасова журнал отняли...
С начала 1866 года горизонт стал быстро темнеть. Некрасов давно жаловался на "шаткость существования журнала". С 1865 года он взял для "Современника" бесцензурное положение, что по недавно принятому закону о печати значило - два предупреждения за крамольные материалы, и на третьем журнал будет закрыт. Два предупреждения "Современник" получил незамедлительно, второе - за стихотворение самого редактора "Железная дорога".
"Я на ваше письмо не отвечал потому - что дожидался, чем кончатся мои многострадальные похождения по начальству, - писал Некрасов Островскому 31 января 1866 года. - Теперь могу сказать, что "Современник" в наступившем году авось не умрет!" Но - человек предполагает...
4 апреля 1866 года у решетки Летнего сада бывший студент Дмитрий Каракозов стрелял в царя. Он промахнулся, царь остался невредим. Мастеровой Комиссаров, будто бы толкнувший террориста под руку и тем спасший жизнь Александру II, был возведен в дворянское достоинство и получил к фамилии почетную прибавку - Комиссаров-Костромской, что не слишком польстило, надо думать, кое-кому из его земляков. Островский помалкивал, читая газеты, но ведь не мог он забыть, что всего каких-то два месяца назад, в феврале, участвовал в утре, проведенном в Артистическом кружке в пользу студентов Петровской академии, - среди них оказались главные заговорщики. Сбор, как потом выяснилось, пошел на организацию "ишутинцев".
Верховную следственную комиссию возглавил граф М.Н. Муравьев, получивший за свои подвиги в восставшей Польше прозвище "вешателя".

Губернаторам были даны чрезвычайные полномочия. Начались аресты. Девяносто семь человек было сослано в Восточную Сибирь, одиннадцать - в Архангельскую губернию, четырнадцать - выслано за границу. По ходатайству Муравьева были уволены сановники, заподозренные в потакании либерализму, в том числе Головнин, исхлопотавший когда-то Островскому перстень за "Минина". Один из первых ударов пришелся по журналам. 10 мая 1866 года М.Н. Островский писал из Петербурга брату, что Некрасов "находится в совершенно убитом состоянии духа: ему грозят судить за статью Жуковского, некоторые из его сотрудников взяты..."
В самом деле, еще в апреле был арестован соредактор Некрасова по "Современнику" - Г. Елисеев, а, явившись на другой день к нему на квартиру, где производился задним числом обыск, Некрасов сам едва не был задержан расторопным жандармским офицером.
"Современник" и "Русское слово" Благосветлова были закрыты. Не спасла журнал и ода, в отчаянную минуту прочитанная Некрасовым Муравьеву в Английском клубе. Извещая Островского в июне о ликвидации дел по "Современнику", Некрасов писал, между прочим: "все наши общие знакомые здоровы" - понятная в те дни всякому форма сообщения, что новых арестов не было.
Островский сторонился политических страстей и разговоров. Но сколько бы ни твердили дурного о Некрасове - а за ним всегда вилась хвостом бездна сплетен и "справа" и "слева" ("картежник", "делец", "крамольник"), - Островский знал его за благородного человека, журнального подвижника и числил среди немногих петербургских друзей. Автор "Коробейников" и "Рыцаря на час" был близок ему и как поэт. Они могли подолгу не видеться, обмениваться лишь деловыми записками, но всегда чувствовали свое литературное братство. То, что Некрасов лишился теперь журнала, означало, что и Островскому, по сути, негде печататься.
Тем же летом 1867 года, что Островский сидел с удочкой на омуте, Некрасов забился в свое имение Карабиху и ходил с ружьишком на охоту, стараясь забыть то, что оставил в Петербурге, и без конца возвращаясь мыслями к погибшему журналу: не сделал ли он в чем роковой ошибки, пытаясь безуспешно его спасти? В тот год слагались строфы "Медвежьей охоты":
"Не предали они - они устали
Свой крест нести.
Покинул их дух гнева и печали
На полпути..."
На охоте, в деревне, Некрасов обычно был иной, чем в Петербурге, - свободнее, легче, разговорчивей. Но благодушное настроение мгновенно покидало его, как только он вспоминал о задушенном журнале, о перенесенных им унижениях, цензурных муках. Однажды кто-то из его товарищей по охоте среди легкого, праздного разговора полушутя заговорил с ним о цензуре и вдруг осекся, увидя его глаза: "Такого выражения у него в глазах я никогда не видывал после. Охотники видят это выражение в глазах у смертельно раненного медведя, когда подходят к нему и он глядит на них". Таким был Некрасов и в лето 1867 года, когда ждал к себе Островского в Карабиху. Среди душевной потерянности и одиночества, в каком он находился, Островскому нужна была эта встреча. Но и для Некрасова он был в эту пору желанный гость и собеседник.
Островского подкупала в Некрасове его крепость, надежность. Он всегда помнил те простые и нужные слова поддержки и утешения, какие Некрасов безошибочно находил для него.
"Поправляйтесь, отец, - писал он ему как-то во время его болезни, - надо вам что-нибудь сработать весной... Надеюсь, опять столкнемся на несколько дней либо в Москве, либо в одном из спопутных вам городишков, а может, и ко мне в деревню надумаете заглянуть. У меня теперь просторно, есть особое помещение. Что вы там толкуете о своем увядании? Это случайная болезнь на вас хандру нагнала. Вы наш богатырь, и я знаю и верю, что вы еще нам покажете великую силу...."
В переменчивое летнее ненастье - то парит, то дождь - Островский отправился в Карабиху и пробыл здесь два дня - 4 и 5 июля. Карабиха находилась сравнительно неподалеку от Щелыкова, в соседней губернии. В пятнадцати верстах от Ярославля на крутой горе, полого спускавшейся к речке Которосли, стоял белый барский дом с бельведером и двумя флигелями, где размещали гостей.
Некрасов встретил Островского приветливо, хлопотал, как удобнее его поместить, называл ворчливо-дружески "отец". Он был все тот же, что в последние встречи в Петербурге, разве что лицо его приобрело какой-то нездоровый, желтоватый оттенок да волосы еще поредели на высоком подъеме лба. По дому он ходил запросто, в халате и феске с кисточкой, в туфлях на босу ногу. Говорил по обыкновению сипловато, будто был простужен.
Они вместе обедали, подолгу сидели и курили в комнате с белым мраморным камином, любимая охотничья собака хозяина располагалась у его ног. Когда прекращался дождь и выглядывало солнце, гуляли по английскому парку с прудом. Некрасов показывал Островскому усадьбу, водил по фруктовому саду. Островский расспрашивал его, присматривался, нельзя ли завести такое и в Щелыкове. Этим летом они с Михаилом Николаевичем решили откупить усадьбу отца в свою собственность, и оттого хозяйственный взгляд его был приметлив.
О литературе Некрасов говорил усталым, чуть ленивым, хрипловатым голосом, на многое смотрел скептически и отстраненно, но в самом складе его ума была та дельность, прямота и ясность, которые действовали успокоительно, отрезвляюще. Он задумывал собрать рассеянные силы "Современника" в большом сборнике и приглашал Островского к сотрудничеству: раз отняли журнал, будем перебиваться альманахами, как в 40-е годы, в молодости.
Островский вернулся в Щелыково несколько приободренный. "Я ездил недаром, - отчитывался он в письме Марье Васильевне 8 июля 1867 года, - и успел сделать хорошее дело с Некрасовым. Он к зиме издает большой сборник и обещал взять у меня мою пиесу и перевод итальянской комедии. Значит, нужно работать".
Настоящего прилива энергии, аппетита к работе он, правда, не ощущал. По-прежнему давило сознание бездомности - и в жизни, и в театре. Но - "нужно работать". И, вернувшись с реки после утренней или вечерней зори, он упорно садился за стол. Либретто, так либретто, перевод, так перевод. До обеда три с половиной страницы, после обеда - две. Скучновато читать этот счет аккуратно выработанным страницам рядом с рыболовным реестром в его дневнике. "...Поймали 10 пискарей, 10 плотвиц и 3 окуней. Вечером перевел 2 1/2 страницы".
Но все же что-то сдвинулось в его настроении после поездки к Некрасову. Жизнь, в которую он свято верил, напоминала о себе как мудрая, неодолимая сила. Жизнь, которая рассеивает любую безнадежность, перемалывает всякую боль и в поисках выхода из тупика создает такие неожиданные сочетания событий и сил, какие и не грезились усталому, отчаявшемуся уму.
В октябре 1867 года,когда Островский был в Петербурге, чтобы встретиться с вновь назначенным директором театров С. А. Гедеоновым, Некрасов потихоньку шепнул ему, что есть надежда перехватить у Краевского захиревший его журнал "Отечественные записки" и, официально не сменяя издателя, попытаться сделать новый "Современник". Некрасов рассчитывал на участие Островского в предполагаемом журнале, говорил, что видит в нем желательнейшего из авторов. Так, может, жизнь не кончена в сорок четыре года, как начинало казаться порой над темной водой щелыковского омута? И он еще будет писать, и печататься, и счастье ему посветит, и театры будут с былым триумфом играть его пьесы?
В волшебной сказке "Иван-царевич", писавшейся той же осенью, есть такой диалог:
"Все: Ты, Иван, куда?
Девкин: Я на плотину.
Кошкин: Зачем? Рыбу ловить?
Девкин: Нет, не рыбу ловить, а я... Вот что... Я - туда, в омут...
Царицын: Купаться, что ли, идешь?
Девкин: Нет, не купаться, а я совсем туда... с камнем. Вот что. Прощайте! (Идет.)
Все: Постой! Постой!"
Два брата Ивана Девкина - Царицын и Кошкин - решают утопиться заодно с ним, да по дороге раздумывают.
"Царицын: Что ж, топиться, так топиться,- и я не прочь... Только вот что, ребята: я сегодня что-то не в расположении... утопимся завтра все вместе!
Кошкин: Ну, один день - куда ни шло!
Девкин: Я что ж? Я, пожалуй, один день подожду. (Садится.)
Один из работников: Придумали такую глупость непростительную - топиться, да толкуют, точно дело какое сбираются делать".
"Сказка - ложь, да в ней намек..." Стоит задуматься на минуту, и ты остановишься на краю черной пропасти, в которую было заглянул, и станет слаще каждый глоток воздуха, и небо голубее, и крепче запахнут цветы и травы, и снова захочется жить вечно.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 20:26 | Сообщение # 36 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 291
Статус: Offline
| ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ"
Петербург. Угол Бассейной и Литейной улиц. (Тогда она еще не звалась проспектом.) Дом Краевского. Широкая лестница на второй этаж. Дверь с начищенной медной табличкой: "Николай Алексеевичъ НЕКРАСОВЪ".
В старом обиталище "Современника", где на два года все замерло и опустело, былое оживление. По понедельникам к часу дня в большой приемной комнате, выгороженной из некрасовской квартиры, как прежде, сходится вся редакция. Раньше других появляется здесь чернобородый красавец лет тридцати, с бледным тонким лицом, и пристраивается за высокой конторкой с бумагами. Это новый секретарь "Отечественных записок" Василий Слепцов. Приходит, неся ворох рукописей в портфеле, Григорий Захарович Елисеев, человек поповской наружности, с бородой библейского патриарха, немногословный и внимательный - бесценный журнальный работник. Еще с лестницы слышен грозный кашель Михаила Евграфовича Салтыкова: он входит шумно дыша, с чуть выпученными глазами, здоровается по обыкновению сердито, но так, что все знающие его почему-то улыбаются, и, оглянувшись, нет ли поблизости дам, отпускает крепкое словцо по поводу мороза, цензуры, канальи-извозчика или только что прочитанных стихов какой-то петербургской барышни.
Приемную эту Островский помнит еще с конца 50-х годов, и с той поры она мало изменилась. В центре комнаты большой бильярд, под ним гуляет черный пойнтер Некрасова. У стены - шкаф с рукописями и чучелом зайца на нем, в углу - медведь на задних лапах с оскаленными зубами. Пришедшие усаживаются в креслах и на полукруглом диване, у стола с зеленым сукном. За тяжелой портьерой в глубине комнаты - вход в личные покои Некрасова, растянувшиеся по фасаду с окнами на Литейную.
Некрасов встает обыкновенно по-петербургскому поздно. Полусидя в постели, на высоких подушках, пишет что-то или просматривает свежие корректуры, доставленные из типографии метранпажем Чижовым. Потом пьет кофе, одевшись в просторный архалук со шнурками, просматривает газеты, листает чью-то рукопись. Для москвича Островского день уже пошел к вечеру, а тут еще только утро. Но когда бы он здесь ни появился, хоть и не в приемный час, его проведут к Некрасову для уединенного разговора. А потом они вместе, раздвинув портьеру, выйдут в редакционное помещение, уже заполнившееся гулом голосов.
Островского приветствуют почтительно и дружелюбно, Некрасов знакомит его с Глебом Успенским, Михайловским. С любопытством поглядывает на драматурга не по годам тучный молодой человек с апатическим лицом - критик Скабичевский.

Конечно, это не Добролюбов, но он собирается писать в "Отечественных записках" о новых комедиях Островского...
Островскому нравилось, что в "Отечественных записках" все делалось, по видимости, само собою. Деловые разговоры велись как бы между прочим. Говорили вперемежку обо всем: о новостях газет, плане очередной книжки, модной повести, перемещениях чиновников, в особенности влиявших на литературные дела, о вестях и слухах, касавшихся цензурного комитета, о видах на урожай, лесных пожарах, туркестанских походах и холере...
Дух редакции был лишен сентиментальности. Если рукопись нравилась, Некрасов хвалил коротко и по делу, если не нравилась - говорил внятно: не подошло. Чтобы не обидеть, ссылался порой на финансовые затруднения журнала. Но скуп, вопреки молве, не был. Узнавал, что автор бедствует и не может ждать расчета с конторой, подходил к трюмо, стоявшему в его комнате, вынимал из узкого ящика в подзеркальнике радужные ассигнации, которые имел обыкновение совать туда вечером после выигрыша в клубе, и вручал нуждающемуся. Островский тоже пользовался иной раз щедротами подзеркальника.
Деловой, непринужденный и серьезный дух был перенят от Некрасова и другими сотрудниками. Тем более что его соредактор Салтыков еще менее был наклонен к сентиментальным эмоциям: покряхтывал баском и резал автору всю правду о его сочинении, не щадя самолюбия "литературных генералов".
Демократическое и критическое направление "Отечественных записок" выявилось очень скоро. Для этого не понадобилось литературных манифестов: все здоровое, честное, молодое прибивало к этому берегу само собою. Литераторов не задергивали тут мелочными претензиями, не подгоняли под свой вкус. Верность направлению журнала Салтыков и Некрасов понимали достаточно широко: лишь бы автор писал правду, болел душою за народ, избегал общественной и нравственной фальши.
Островским в "Отечественных записках" дорожили, считались с ним, можно даже сказать, ухаживали за ним. Он заслужил это трижды: как старый сотрудник Некрасова еще с "золотых лет" "Современника", как редкий московский гость, наконец, как общепризнанный большой художник, оставшийся, в отличие от Тургенева или Толстого, верным демократическому журналу и в самые трудные его дни.
Пьесы Островского неизменно печатались в первой, "казовой" книжке "Отечественных записок": ими по традиции открывался журнальный год. А если Островский, по счастью, сочинял в сезон и вторую комедию, охотно печатали и ее. В 1868 году в номере 11 он дебютировал в некрасовском журнале пьесой "На всякого мудреца довольно простоты", в номере 1 за 1869 год появилось "Горячее сердце" - и пошло: номер 2 за 1870 год - "Бешеные деньги", номер 1 за 1871 год - "Лес", номер 1 за 1872 год - "Не было ни гроша, да вдруг алтын" и т. д.
Наведываясь в Петербург, Островский, в компании с Горбуновым или Бурдиным, часто становился участником скромных редакционных праздников. "Отечественные записки" и в этом унаследовали обычаи "Современника". Когда, протомившись положенные три дня в "чреве кита", очередная книжка получалась из цензуры с дозволением идти в свет, Некрасов устраивал "генеральный обед" для сотрудников. У Донона, рядом с Певческим мостом, или в русском ресторане "Малоярославец" сходились А.Н. Плещеев, В.С. Курочкин, Г.И. Успенский, А.А. Потехин и другие близкие журналу литераторы.
Островский охотно бывал на этих дружеских литературных сходках; но Петербург - не Москва, и он чувствовал себя здесь несколько скованно, "как тот редкий гость, - вспоминает очевидец, - который пришел в незнакомый дом и не знает, что делать: сесть или стоять, слушать других или начать разговор, и даже затрудняется в том, куда девать свои руки". Иным он казался величавым, важным, но такое впечатление было обманчивым. Правда, с годами он становился молчаливее, и довольно было двух-трех малознакомых людей в компании, чтобы его трудно было расшевелить. Но он внимательно слушал все, о чем говорили, с доброй улыбкой, наклонив набок большую, рано начавшую лысеть голову, и поощряя собеседника к месту вставленным словцом. На этих обедах он нередко сидел рядом с Салтыковым и своим молчаливым спокойствием составлял выразительный контраст с вечно кипятившимся, желчным и язвительным Михаилом Евграфовичем. Лишь однажды он вступил в полемику на некрасовском обеде, вызванный к тому не в меру самодовольным литератором.

Петр Дмитриевич Боборыкин тоже был автором "Отечественных записок", хотя и довольно случайным. Встречая его, Салтыков имел обыкновение произносить нецеремонно: "Ну что вы там набоборыкали?" Перу Боборыкина, помимо толстых романов, принадлежало и несколько пьес, он считал себя знатоком теории драмы и в 1871 году печатно заявил в журнале "Дело", что Островский попал в сценические писатели по недоразумению. На обеде у Некрасова Боборыкин имел неосторожность заметить Островскому, что тот мало знаком с техникой построения пьесы.
- Может быть, - скромно отвечал Островский, - но в моих пьесах еще не случалось, чтобы играли конец вместо середины, а середину вместо конца. Присутствующие рассмеялись. Известно было, что на представлении одной из комедий Боборыкина театр поменял местами четвертое и пятое действия и никто из зрителей не заметил этой перемены.
Своим спокойным, незлобивым юмором Островский подкупал всех. Нравилось, что он говорил немного, но метко, и сам умел слушать. Его особенно увлекал разговор Салтыкова, его гиперболическая образность и резкий ум. Не зря в первых же комедиях Островского, напечатанных в "Отечественных записках", критики расслышали "щедринские" нотки.
На рубеже 60-х и 70-х годов большинство разговоров в редакционной комнате и на обедах Некрасова сводилось к разочарованию "эпохой реформ". Народнические взгляды еще не успели определиться, но буйно цвела критика остатков крепостничества. "Хотя крепостное право, в своих прежних осязательных формах, не существует с 19 февраля 1861 года, - рассуждал Щедрин, - тем не менее оно и до сих пор остается единственным живым местом в нашем организме. Все, на что бы мы ни обратили наши взоры, все из него выходит и на него опирается".
Надо было изжить розовые обольщения, вызванные в обществе посулами 60-х годов, и "Отечественные записки" взяли на себя эту отрезвляющую работу. Когда Островский раскрыл первую книжку обновленных "Отечественных записок", он понял, что и для него настала пора новых песен. Захотелось писать современную, даже злободневную комедию. Прискучили исторические хроники, истомил добровольно взятый на себя пост поденной работы - драматических переделок и оперных либретто.
Осенью 1868 года в Щелыкове, а потом в Москве, Островский испытал сильный душевный подъем и жажду работы. На одном листе бумаги он набрасывает планы сразу двух современных комедий: одна должна называться "Дневник, или На всякого мудреца довольно простоты", другая - "Горячее сердце".
Пьеса о "мудрецах" - самая "щедринская" комедия Островского. Злободневность, памфлетность, даже карикатурность, до той поры им избегаемая, возведена здесь в ранг художества. Сатирический тон диктовался мыслью, настроением автора и его чутьем к потребностям сцены.
Мысль комедии - насмешка над пореформенной ажитацией - совпадала с тем, о чем писали "Отечественные записки".
Настроение автора несло на себе черты только что пережитого душевного кризиса. "Мудрец" был первой после двухлетнего воздержания современной пьесой, и он писался Островским в том неудовлетворенном, сосредоточенно-раздраженном состоянии, когда только и могла явиться под его пером такая комедия - злая, колючая, без единого положительного лица и с героем-подлецом в центре действия. Ему словно бы надо было отвести душу, пройти через желчную сатиру, чтобы снова обрести вкус к добрым сторонам жизни. Новый тон диктовали и потребности сцены. Островский был отзывчив на увлечения публики. Он понимал: мудрость состоит в том, чтобы считаться не только с разумом, но и с предрассудком. Злободневности он учился у своего врага - оперетты.
В конце 60-х годов оперетта пронеслась по Европе, как ураган, и ворвалась на петербургские подмостки вместе с мадемуазель Девериа и рыжеватой, веселой, развязной француженкой Ортанс Шнейдер. "Шнейдерша", как именовал ее Щедрин, темпераментно пела куплеты, взвизгивала и высоко подымала цветные юбки в канкане. Сумасшедшему успеху оперетки приписывали в те дни поражение французов в франко-прусской войне и падение второй империи! Но это не остановило русских - и молоденькая Лядова в Александринке снискала шумные восторги публики в "Прекрасной Елене".
"На новый год, - писал из столицы своему родственнику один провинциал, - был в Александрийском театре, давали "Прекрасную Елену". Она теперь, начиная с сентября месяца, дается в неделю два раза. Успех ее я приписываю как комизму и веселости, так и ее скандалезности. В ней, напр., жрец Калхас старается как можно больше экономничать насчет освещения, потому что, по его словам, керосин дорожает... Ахиллес надевает pince-nez, фабрит усы, Парис ходит со стеклышком, говорит "pardon" и т. п. Елена потчует своих гостей кофе со сливками и чаем с лимоном и т. п. Калхас в одном месте говорит, что у него есть акции и облигации, и жалуется, что ему вместо двугривенного всунули пуговицу; там упоминаются и железные дороги, и Милль и т. п.".
Оффенбах вытеснял из репертуара Островского. "Нужно тебе заметить, - предупреждал из Петербурга верный Бурдин, - что против нас и нашего направления приготовляют сильные камуфлеты в виде оперетт Оффенбаха: "Разбойники" и "Трабизондская невеста".
Островский понимал, что успех этим пьесам, помимо веселой легкой музыки и скабрезной вольности телодвижений, сообщает и пикантность текста - насмешка над извечно почитаемыми ценностями: богами, историей, нравственностью. Античный колорит в "Прекрасной Елене" азартно разрушался прямыми отскоками в современность, злободневный текст присочинялся на ходу, как в актерском капустнике, и это приводило в восторг своей острой новизной публику, зачахшую от скуки поучительных исторических драм.
Конечно, этим перемигиваниям с партером не велика была цена. Оперетка губила вкус зрителей, приучала к фарсу актеров. "Любовники от исполнения Парисов и Орфеев, - замечал драматург, - много утратили естественности; а комики, играя без веселости и комизма, унылым образом, Юпитеров, Агамемнонов, Менелаев и Калхасов, дошли до самого неприятного паясничанья, т. е. до скучного".
Но что делать, если зрителям это нравится? Можно, конечно надменно рассуждать о превосходстве бытового или исторического жанра и играть в полупустом зале. А не умнее ли перехватить у оперетты злободневный тон и, не теряя достоинства искусства, насытить им русскую комедию? Настоящий человек театра, Островский так и поступает.
Его первым ответом на оперетку должна была стать сказка "Иван-царевич". Увы, у дирекции не оказалось денег на постановку, и это расхолодило автора. Островский брал не античный, а русский сказочный сюжет, но оснащал его, как в "Прекрасной Елене", множеством пародийных выходок, намеков на современность, вплоть до прямого объяснения автора со зрителем устами царя Аггея: "Друзья мои, прежде я не верил ничему фантастическому. Вам это удивительно? Ну так я вам скажу, что я и теперь не очень верю, но жизнь так пошла, жить так скучно, все вы, друзья мои, так глупы и надоели мне до такой степени, что никаких моих средств нет..."
Царь Аггей читает газеты, рассуждает о воздухоплавании и карточной игре, а своих богатырей укоряет в том, что все они растолстели, завели фабрики, занялись торговлей, толкаются на бирже и "совершенно забыли о богатырских подвигах...".
Попурри из русских народных сказок с современными куплетами и феерическими превращениями было оставлено Островским. Но опыт смелого введения в спектакль социальной злободневности, летучих примет времени был использован им в комедии о "мудрецах". Новизна постройки пьесы, самый ее "фокус" состоял в том, что современные нравы и разговоры перенесены были в московский застойный быт. Столичное бурление страстей, либеральная сутолока карикатурно отражались в старушке-Москве с инертностью ее быта, маковками "сорока сороков", облупившимися барскими особняками и тишью "бабушкиных садов". Как воспримет реформы московский отставной генерал? Конечно же, он не поверит в перемены: будет ненавистничать, бранить новый век.
Островский вспоминал графа Закревского, когда-то всесильного военного губернатора Москвы. Он так упорно сопротивлялся всем переменам, что в начале нового царствования был уволен в отставку за усердие, которое и властям показалось излишним. Когда уже вышел высочайший манифест об освобождении крестьян, Закревский не разрешал говорить о реформе, утверждая, что в Петербурге "одумаются" и все останется по-старому. Он запретил торжественный обед, затеянный Кокоревым в честь эмансипации, на котором должен был присутствовать и Островский. А уйдя на покой и поселившись в 60-е годы в одном из особняков на Разгуляе, Закревский продолжал тупо злобствовать и писать "прожекты", призванные удержать правительство от пагубной новизны.
В черновиках "Мудреца" генерал Крутицкий был назван поначалу Закревским, потом графом Закрутским. Знаменательная этимология - "закрут", "круто" - слилась в этом имени с исторической фамилией. Но, понятно, Закревский был не один такой. Его ближайший родственник, генерал Дитятин 2-й, созданный И. Ф. Горбуновым в домашних импровизациях, тоже сочинял прожекты "О преимуществе кремневого ружья" и о пользе кормить солдат прессованными костями. Крутицкий в комедии Островского стал воплощением генеральской тупости и ретроградства, оказавшегося не ко времени, но еще ждущего своего часа.
В Москве тех лет встречал Островский и бар старого покроя, вроде болтуна Мамаева, лишенного своих "подданных", но по инерции еще заражающего воздух бессмыслицей поучений... И либеральных краснобаев, вечно спешащих то в клуб, то на открытие железной дороги, то на обед со спичами, как Городулин. И продажных газетчиков мелкотравчатой прессы, торгующих, на манер Голутвина, компрометирующими сведениями о своих знакомых. И пылких поклонниц московского прорицателя и юродивого Ивана Яковлевича Корейши, умершего незадолго до того в Преображенской больнице для умалишенных.
Комедия подхватывала живые черточки с натуры, то, что составляло московскую "экзотику" и было модным, вертелось на кончике языка. Но фигуры, запечатленные драматургом, обладали при этом всеми достоинствами стойкой типичности. Злободневность была наглядна и пробегала по лицам героев комедии, как рябь по воде, а за нею открывалась непромеренная глубина человеческих характеров. То, над чем смеялись, бывало, в редакции "Отечественных записок" - тупоумие консерваторов, болтовня либералов, - было выставлено в комедии на позор - крупно, ярко, смело. Островский словно совершил со своим зрителем путешествие по сценической "стране дураков". Ведь его "мудрецы" - Крутицкий, Мамаев, Городулин, Турусина - всяк по-своему образец глупости: глупости природной и социальной, глупости по положению и привычкам, по принятой и усвоенной себе роли. Среди этого человеческого отребья - единственный умный человек Глумов, новейший московский Чацкий. И как сладко было Островскому заставить Глумова ловко надуть их всех, над всеми посмеяться. А потом и этого единственно умного человека в пьесе, продавшего и унизившего двуличием свой ум, наказать катастрофическим падением.
Щедрин быстро схватил новизну Глумова и не преминул воспользоваться этим типом в своих сатирических хрониках, как ранее пользовался типами Молчалина или Ноздрева. Знание зла, понимание его причин, даже тайная насмешка над ним еще не спасают человека от подлости. И наблюдательный, острый, цинический молодой человек с фамилией Глумов стал разгуливать по страницам щедринских "Недоконченных бесед", "Писем к тетеньке" и "Современной идиллии".
6 ноября 1868 года спектакль "На всякого мудреца..." ожидал в Малом театре прием, на какой автор, по правде говоря, мало рассчитывал. Слухи о злободневной, с критикой "на лица" комедии Островского заранее разнеслись по Москве. До билетов было не додраться. Во время действия в зрительном зале происходили курьезные истории.
"Когда комедия близилась к развязке, - сообщал московский корреспондент газеты "Голос", - и Глумову, казалось, все улыбалось, является вдруг в квартиру Глумова какой-то Голутвин и предлагает купить пасквиль о нем до напечатания. В театре многие переглянулись; один купец довольно ясно произнес: "Бывалый случай". Какой-то женоподобный господин, до тех пор усердно записывавший свои впечатления на бумажке, вдруг сжал эту бумажку, переконфузился, потерял pince-nez и хотел было встать, но потом опять присел, робко оглядываясь кругом, не обращены ли на него взоры публики".
Автор сам готовил актеров на репетиции: он заранее прошел роли с П.Садовским, игравшим Мамаева, Шумским - Крутицким. Е.Н. Васильевой - Мамаевой и, присутствуя на премьере, с волнением следил из ложи за игрой своих любимцев. Надежды не обманули его: успех был невероятный, сумасшедший. В середине действия в театре произошло небывалое происшествие: после монолога Глумова, не давая артистам доиграть акт, публика стала вызывать автора. Островский, хоть и досадовал на такое нарушение цельности впечатления, внутренне ликовал. Такого не помнили театральные старожилы - это был успех не артистов, а писателя. Овация на "Мудреце" вернула ему силы, он снова почувствовал себя твердо на выбранной им дороге.
За "Мудрецом" последовало "Горячее сердце", а потом "Бешеные деньги", "Лес", и каждая из этих пьес приоткрывала занавес над новым уголком жизни. Странно подумать, что совсем недавно он хотел отказаться от современной темы, уйти из театра. Неужели эти пьесы могли не явиться на свет? Какая уйма живых людей - с разнообразием лиц, голосов, привычек, характеров стучалась в его двери, едва он садился к письменному столу...
В "Горячем сердце" он перенес действие в глухую провинцию. В комедии сплелись черты уездного детектива, доброй, наивной сказки и современного памфлета, настолько современного, что Федор Бурдин, представлявший пьесу в цензуру, на свой страх и риск выставил в афише спасительную фразу: "Действие происходит лет тридцать назад". Островский не возражал. Весь смысл комедии состоял в том, что в российской глуши за эти тридцать лет мало что изменилось.
Актер и антрепренер П.М. Медведев, рассказы которого о театральном житье-бытье любил слушать Островский, оставил в своих воспоминаниях занятную картинку. Однажды двое пропыленных, обтрепавшихся в пути артистов, Медведев со своим приятелем, пришли пешком в город Дорогобуж и сели передохнуть на лавочке. К ним подошел, подозрительно на них поглядывая, человек в халате и военной фуражке, присел рядом и вдруг потребовал "пачпорта". Оказалось, это был городничий, смущенный непрезентабельным видом странствующих артистов.
В артистах этих легко узнать Аркашку и Несчастливцева из "Леса", совершающих путь "из Вологды в Керчь", в городничем - Серапиона Мардарьича Градобоева из "Горячего сердца". И было это никак не "тридцать лет назад", а во времена недавние. Столичные витии, опьяненные собственных: красноречием, никак не могли представить себе, что российская провинция все еще живет в ином веке.
"А там, во глубине России, -
Там вековая тишина", - писал Некрасов.
В уездном городке Калинове, где правит Градобоев, как и в имении госпожи Гурмыжской "Пеньки", расположенном от Калинова неподалеку - не дальше, чем Щелыково от Кинешмы, - реформы мало что изменили, и жизнь течет такая же сонная, жестокая, дикая, как бывало. "Лес, братец", - вздохнет Несчастливцев.
Новизною запахнет разве в том, что "алтынники", вроде Восмибратова, начнут скупать дворянские леса и усадьбы, а иные из них разбогатеют до того, что, как Хлынов в "Горячем сердце", заскучают от своих денег. В Хлынове находили черты московского купца М.А. Хлудова, ставшего "миллионщиком" и прославившегося своими фантастическими затеями и проказами. Ему ничто не указ. Он может позволить себе поливать садовые дорожки шампанским и палить без толку из пушки, потому что с самой губернаторшей чай и кофей пьет - "и довольно равнодушно".
Олицетворение местной власти - калиновский градоначальник Градобоев выходит на крыльцо в форменной фуражке и халате, с костылем и трубкой в руках, чтобы по-отечески творить суд и расправу. Он предлагает обывателям судить их по душе, а не по закону, и оробевшие горожане живо соглашаются: уж лучше привычное взыскание костылем и работа на градобоевском огороде, чем смутная угроза каких-то "законов".
В годы, когда газеты на все лады расписывали успех в народе "новых судов", введенных после реформы, сцены суда на крыльце и следствия за закуской и выпивкой под древом несли в себе тайный яд.
Премьера "Горячего сердца" в Малом театре 15 января 1869 года снова прошла с триумфом. Пьеса игралась в бенефис Прова Садовского, и в роли Курослепова, как в дни былые, блеснул бенефициант. Последние годы замечательный артист играл не всегда ровно. Его укоряли даже в некотором равнодушии, апатичности, небрежности на сцене.
Они смолоду были близки с Островским. Но году в 1864 пли 1865 произошла какая-то история, рассорившая старых приятелей. Быть может, воспитанному в патриархально-религиозном духе Садовскому не нравилось, что Островский увлекся Марьей Васильевной и его семейный уклад, прежний быт дома стал быстро меняться. Или причиной тут были какие-то недоразумения в связи с организацией Артистического кружка? {Так считают некоторые биографы Островского. Но Артистический кружок открылся в октябре 1865 года, а еще 25 мая 1865 года в письме к Е.Н. Васильевой Островский пишет о Садовском сухо официально и просит ее посредничества в переговорах об устройстве гастролей артиста в Нижнем Новгороде в случае "желания г. Садовского ехать на ярмарку...". Тон в отношениях старых приятелей - необычный.} Кто знает. Но был и еще один - очевидный повод к их ссоре. На премьере "Воеводы", явившийся на спектакль после бессонной ночи в клубе и обильных возлияний, Садовский в сцене поэтического "сна" заснул самым натуральным образом, и его не могли добудиться ни суфлер, ни помощник режиссера. Артист Де-Лазари вспоминает объяснение совершенно убитого случившимся автора с переконфуженным своим поступком артистом, происшедшее в тот же вечер после спектакля в клубе.
"Ах, Пров Михайлович, бога вы не боитесь!.. И что вы делаете?.. Грешно - не хорошо!.. - пенял ему Островский. - Пьесу мне жаль!.. Себя самого - жаль, но больше всего: жаль мне вас... Губите вы самого себя и дело, которому мы с вами так честно, добросовестно служили. Сбились вы, Пров Михайлович, и сбились совсем! Не можете вы теперь отличить дня от ночи, белого от черного.. Да... грустно, тяжело мне; но что же делать? Надо подумать, чем заслужить вашу милость. Подумаю, да и напишу вам другого "Воеводу". Воеводу, похожего на вас, который давно уже забыл: когда ночь?.. когда день?.. Живет ли он, умер ли?"
Роль Курослепова в "Горячем сердце" и была, по догадке современника, необычной местью автора любимому артисту. Так ли это на самом деле, сказать трудно, но несомненно, что яркая эта роль была скроена вполне по таланту великого комика.
Калиновский городской голова предстал на сцене вечно заспанным, похмельным существом, потерявшим представление о том, что наяву, а что во сне: ему уж кажется, что и небо валится, и часы бьют пятнадцать раз, и вообще светопреставление - последний конец начинается. Садовский изображал Курослепова деградирующим, помраченным, хоть и не злым человеком - благодушие, растерянность звучали в его голосе. Но с этим благодушием ему ничего не стоило разбить гитару о голову приказчика, опозорить дочь, сдать Васю в солдаты.
Хохот зала сопровождал большинство реплик Садовского. И даже когда он сидел молча в долгополом черном сюртуке и цилиндре и только отдувался, слушая, как перекоряются городничий и Хлынов, весь зал глядел только на него и умирал со смеху, следя за мимикой артиста.
Ансамблю спектакля помогли Хлынов - Дмитриевский и Живокини - Градобоев. Не затерялась даже маленькая роль унтера Сидоренко: артист Никифоров, не без поощрения автора, создал почти портретный тип. Клавший в нюхательный табак по пропорции золу и толченое стекло, Сидоренко сильно смахивал на того будочника с алебардой, который вечно торчал у домика в Николо-Воробьинском.
Островский был снова утешен игрою своих любимцев и, как в прежние времена, с обожанием и гордостью смотрел на Прова. Он не знал, что для замечательного артиста это последний крупный успех в его пьесе. Спустя три года Садовского не стало. Он успел еще, правда, сыграть Восмибратова в "Лесе" и Ахова в комедии "Не все коту масленица", но триумф роли Курослепова больше не повторился...
Успех "Горячего сердца" на московской сцене закрепил возвращение Островского на стезю современной комедии. Малый театр помог "Отечественным запискам" отвоевать драматурга для живого дела искусства. Островский преодолел растерянность и тоску. Правда, он писал теперь как-то по-иному, словно утеряв долю к своего благодушия. Критики, привыкшие к эпическому покою, незлобивой улыбке Островского, терялись перед сатирическими портретами Глумова и Градобоева и разочарованно твердили: карикатура, фарс. Но став зорче ко злу, Островский не покинул твердого берега веры в правду, в душу человеческую и воспевал "горячее сердце" Параши, благородную поступь Несчастливцева.
Каждую новую пьесу Островский посылал в "Отечественные записки"; копии, сделанные переписчиками с его рукописи, обычно одновременно получали театр и редакция. Иногда, как в случае с "Лесом", журнал даже опережал постановку. А если Островский замешкается и давно ничего не шлет в редакцию, Некрасов напоминает о себе письмом: "Отзовитесь! Мы давно от Вас не имели весточки. Журнал наш интересуется Вами, желательно знать - можно ли рассчитывать и Вас, - на какое произведение и к какому времени?" (12 октябре 1870 г.)
"Мы дожидаемся нетерпеливо Вашей новой комедии, которая могла бы войти в N 1 "От. з.". Уведомьте, пожалуйста, поскорее, можно ли на это рассчитывать наверное" (28 ноября 1870 г.)
"Извещают о новой Вашей комедии. Я питаю надежду, что Вы не обойдете нас ею: нам она весьма нужна и желательна..." (16 октября 1873 г.)
Идут, идут годы, и вдруг люди замечают, что живут уже в ином времени. К началу 70-х годов что-то стронулось в самом составе русского общества, в сословиях и интересах, заботах и типах дня: "господин Купон" стоял на пороге. На страницах газет, в клубе и на улице заговорили о концессиях и банках, биржевых маклерах и удачливых аферистах. "Отечественные записки" с настороженностью приглядывались к этим первым, еще нетвердым шагам России, вступавшей на новый путь, и не хотели верить, что нам суждено повторить с опозданием все пройденное Западом. Островский тоже всматривался в незнакомые ему прежде лица "практических людей", новых дельцов, молодых победителей жизни. Черты их поначалу были расплывчаты: не прежние устойчивые типы, привычные его перу, а "молодые месяцы", как скажет Гончаров, "из которых неизвестно что будет, во что они преобразятся и в каких чертах застынут... чтобы художник мог относиться к ним как к определенным и ясным, следовательно, доступным творчеству образам" .
Таков герой "Бешеных денег" Васильков. Не сразу скажешь - сочувствует ему автор или посмеивается над ним? Да, деловитость Василькова симпатичнее азиатской распущенности Курослепова или обезумевшего от своих богатств Хлынова. Но, в сущности, этот культ "расчета", "умных денег", это умение все подсчитать, все учесть и "из бюджета не выйти" - черты для Островского чужие.
Сам Островский был как-то так устроен, что никогда не умел выгодно вести дела, хоть и любил выказать себя предприимчивым, практическим человеком. Взять хотя бы продажу издателям сочинений: вечно его преследовали тут какие-то неудачи. То книгоиздатель тайком допечатывал второй тираж и не делился прибылью, то отказывался от уже заключенного было контракта. "Все они, то есть издатели - мошенники и пьют мою кровь", - сокрушенно замечал Островский. Пробовал он издавать свои сочинения у Кожанчикова, потом у Звонарева, сговаривался с Краевским, но толку не выходило, хотя ему и оказывал помощь такой многоопытный в издательской коммерции человек, как Некрасов. "Некрасов несколько раз мне в глаза смеялся и называл меня бессребреником. Он говорил, что никто из литераторов не продает своих сочинений так дешево, как я..." - задним числом жаловался Островский Максимову.
Сам Некрасов платил драматургу щедро, по двести рублей за акт, что считалось порядочной суммой. Прошедший выучку у эконома Погодина, Островский всегда это ценил. Но попытки Некрасова помочь ему продать свои сочинения повыгодней наталкивались на необъяснимую непрактичность Островского. Не то, чтобы тот был чистюлей, напротив, он охотно говорил о деньгах, строил проекты выгодного устройства своих дел, азартно торговался, но почему-то в результате неизменно оказывалось так, что он оставался внакладе. Деловая интуиция, трезвый расчет были ему мало присущи: он с порога обольщался выгодами, которые ему сулили, видел себя в мечтах богатым человеком - и вечно просчитывался и сидел на мели.
Как-то Бурдин с жаром развивал ему один прожект совместного театрального предприятия, особо упирая на его выгодность. Дело верное, лишь бы Островский согласился. И вдруг тот вылил на него ушат холодной воды: "Тому, что ты пишешь об очень выгодном деле, я, извини меня, не очень верю, честные и благородные предприятия никогда очень выгодными не бывают. Надеяться получить такое дело все равно, что надеяться выиграть 200 тысяч; шансов столько же, если не меньше. Работать без отдыха и собирать за свою работу гроши - вот это наше дело, и дело верное и притом честное и благородное".
Как же далек, по существу, и смешноват должен был казаться ему Васильков с его понятием о "бюджете", торжеством трезвого расчета! Даже жену он выбирает себе так, как решал бы теорему об усеченных пирамидах, чисто мозговым, умозрительным способом: ему нужна как раз такая жена, как Лидия, "блестящая и с хорошим тоном". Но когда на сцене появлялась сама Чебоксарова - Гликерия Федотова играла ее в белокуром парике, с пенсне, в элегантном костюме и с нахальным взглядом, - становилось ясно, что и Васильков дитя перед этой молоденькой хищницей. Его практицизм не исключал еще некоторой сентиментальности. Зато Лидия казалось, была вовсе свободна от простых человеческих чувств: законченный тип "буржуазии".
Василькову еще предстояло созреть и раскрыть себя. То, что лишь угадывалось в нем на фоне железнодорожной горячки, скупки лесов, лихорадки акций и ассигнаций, предстало грубой явью в пореформенном "волке" Беркутове, в миллионщике Кнурове из "Бесприданницы"... Именно в лучшую пору "Отечественных записок" в Островском победил тот реализм взгляда, когда ни былые обольщения "самобытностью", ни легкие соблазны "европеизма" стали невозможны для него.
В одну тоскливую безотрадную минуту Некрасов отправил Островскому деловое, как обычно, письмо. В нем оказалось несколько личных, горьких строк: "Я чувствую смертную хандру, которую стараюсь задушить всякими глупостями, - писал Некрасов. - Кажется мне, скоро умру, однако не это причина уныния, а черт знает что".
Некрасов не привык жаловаться. Видно, сильно его припекло. И Островский откликнулся горячими, из глубины души вырвавшимися словами:
"Дорогой мой Николай Алексеевич, зачем Вы пугаете людей, любящих Вас! Как Вам умирать! С кем же тогда мне идти в литературе? Ведь мы с Вами только двое настоящие народные поэты, мы только двое знаем его, умеем любить его и сердцем чувствовать его нужды без кабинетного западничества и без детского славянофильства. Славянофилы наделали себе деревянных мужичков да и утешаются ими. С куклами можно делать всякие эксперименты, они есть не просят. Чтобы узнать, кто больше любит русский народ, стоит только сравнить Ваш "Мороз" и последнюю книжку А. И. Кошелева". Кошелев рисовал идиллическую картину, как гласные от крестьян и помещиков сели за один стол, "будто век за ним сидели": "Это - великолепное свойство русского характера, свойство не помнить зла и соединяться, как только можно и нужно..." .
Но как раз добродетель смирения, "отходчивости сердца" теперь на сильном подозрении у Островского, и не зря в уста пройдохи Наркиса в комедии "Горячее сердце" вставлена ироническая реплика: "Вы из чужих земель, вы нашего народу не знаете. Наш народ простой, смирный, терпеливый народ, я тебе скажу, его можно грабить".
Все примечательно в этом письме - и его неподдельно встревоженный, нежный тон и слова признательности поэту. Так Островский не писал, пожалуй, никому. Но, может быть, самое важное - это решительное отмежевание от славянофильства, с которым еще иногда по старой памяти связывали драматурга. От кичливости самобытностью его спас собственный деревенский опыт - в Щелыкове он узнал, что такое настоящие крестьяне, а не "деревянные мужички", не "куклы". Помогли ему, пожалуй, и зарубежные впечатления и пристальные занятия русской историей.
Историк С.М. Соловьев вспоминал, что смолоду он был жарким славянофилом и только настоящее знакомство с русским историческим прошлым спасло его от крайностей этого направления.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 19:24 | Сообщение # 37 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 291
Статус: Offline
| Островский глубоко погрузился в историю, когда писал свои стихотворные драмы, много читал, свел личное знакомство с Костомаровым, Забелиным, Тихонравовым и другими знатоками русской старины. Теперь он лучше представлял прошлое своего народа: гордился тем, чем можно гордиться, сожалел о том, что заслуживало сожаления. И во всем этом чувствовал себя, как никогда прежде, близким Некрасову и его журналу.
Пьесой "Не все коту масленица" Островский начертал позднюю эпитафию над типом самодура и простился с ним под дружный смех зрителей. На подмостки вышел один из последних владык надломленного, выморочного "темного царства".
Благим матом кричит "караул!" заблудившийся в сумерки в собственном доме Ахов, и дальним эхом раздается по всем тридцати комнатам бывшего княжеского дома этот вопль растерянности и утраченного могущества. Люди не хотят больше кланяться силе, "богатству грубить смеют". Дерзость, "непокорство" - худший грех в глазах самодура...
К несчастью, читатели "Отечественных записок" знакомились с одним Островским, а зрители Александрийского театра - с другим. Пьесы, с триумфом встреченные в Москве, проваливались в Петербурге. "Что же со мной делает петербургский театр? - растерянно восклицал Островский? - Какую пьесу ни поставь - все как псу под хвост...".
"Горячее сердце" в Петербурге провалилось к полному отчаянию автора. "Кто не испытывал падения, - вспоминал Островский об этой неудаче, - для того переживать его - горе трудно переносимое". "На всякого мудреца..." и "Лес" имели самый посредственный успех. Да и диковинно ли, если репетировали кое-как, актеры ревновали друг к другу, Бурдин требовал для себя роль Несчастливцева, к которой не имел решительно никаких данных, и Островский едва убедил его от нее отказаться; в "Мудреце" шаржировали и пороли отсебятину; в комедии "Не все коту..." так скверно знали текст, что едва довели до конца спектакль.
Противники Островского - а таких немало находилось и в театральных креслах и за кулисами - зубоскалили по поводу его неудач. Актер и водевилист П. А. Каратыгин пустил в автора отравленную стрелу эпиграммы:
"Островскому везет теперь не так счастливо,
И неудачи все ж пришлось ему терпеть:
От "Денег бешеных" была плоха пожива,
"Горячим сердцем" он не мог нас разогреть.
Теперь является с каким-то диким "Лесом",
С обновкой, сшитою из пестрых лоскутков,
И "Лес" провалится, подобно тем пиесам:
Чем дальше в лес - тем больше дров".
Петербург с его чиновной публикой, людьми света и двора, фельетонистами и газетчиками был законодателем театральных вкусов, и оттого здесь репутация Островского, несмотря на его успехи в московском театре, в 70-е годы стала заметно падать.
В конце января 1872 года спектакль "Не все коту масленица" посетил Александр II. Он приехал неожиданно, к концу пьесы, и смотрел ее без интереса. Его не увлекал русский жанр. Недавно он был здесь же, в Александринском театре, на водевиле "Амишка" - вот это оставило приятное впечатление: он много аплодировал, а потом даже вышел на сцену из царской ложи - благодарить актеров. Что же веселого в комедии Островского, он не понял и выразил Гедеонову свое недоумение. Гедеонов нашелся и сказал царю, что автор имел в виду показать разницу, какая была прежде и теперь, "вследствие дарованных Государем реформ". "...Ответ этот ему, видимо, понравился", - отметил присутствовавший при этой сцене Бурдин.
В кармане Гедеонова лежало прошение Островского о почетной пенсии, которую он мечтал выхлопотать себе по случаю исполнявшегося в феврале 25-летия литературной деятельности, и царедворец решил использовать момент. Он сказал царю о юбилее автора, о том, что это единственный русский драматический писатель. Александр выслушал Гедеонова "благосклонно", но ничего не сказал. Можно было считать, что в "пенсионе" отказано. А вскоре министр двора и формально подтвердил этот отказ, еще выговорив Гедеонову за его ходатайство, поскольку на основании точной буквы пенсионного устава он не имел права хлопотать о том, что не установлено законом. Ясно стало, что и официальное чествование Островского не может состояться.
Драматург еще надеялся, что юбилейная премьера его пьесы "Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский" на сцене Мариинского театра выльется в радостный для него праздник. Он ошибся и в этом.
Начать с того, что дирекция поскупилась на новые декорации, и они, как обычно, составлялись из старья. Еще на репетициях кто-то из артистов заметил, что неловко представлять сцену, согласно ремарке, происходившую 20 июня перед кремлевскими соборами, - со снегом и сосульками, свисающими с крыш. Поначалу нашли это требование чрезмерным и лишь потом разыскали какую-то ветошь из другой пьесы... с осенним колоритом.
Спектакль состоялся 17 февраля 1872 года. Зала была полна, но обращало на себя внимание отсутствие обычного мариинского "бомонда" и светской молодежи. Рассказывали, что одна дама, отказавшаяся пойти на премьеру, объяснила свое нерасположение к драматургу так: "Он грязен, все у него купцы да мужики". Сказано это было изящно, по-французски.
Артисты Жулева, Бурдин, Монахов, Горбунов играли на этот раз с воодушевлением, публика принимала их тепло и несколько раз вызывала автора. Однако постановка была далека от совершенства. [i]"Костюмы, - отмечал рецензент газеты "Гражданин", - поразили всех своей ветхостью, декорации, казалось, приехали на ломовом извозчике из балагана Берга; так все и пахло презрением, неумолимым презрением к русскому театру и к русским талантам".[/i]
Чествование драматурга состоялось при закрытом занавесе: публике не дали возможности принять в нем участие. Дирекция театров отсутствовала. Артисты поднесли Островскому серебряный венок. С приветствием от труппы выступил режиссер А.А. Яблочкин. В ответном слове юбиляру полагалось благодарить театральное начальство, министерство двора. Но Островский сказал, обратившись к актерам: "Я, совершенно смущенный, ищу и не нахожу за собою заслуг, равных той высокой чести, которой вы меня удостаиваете. Но, господа, сердце сердцу весть подает, и я думаю в эту минуту, что не столько мои 25-летние труды для русского театра, сколько моя 25-летняя постоянная любовь к русским артистам заслужили мне честь настоящего праздника".
Ни словом не обмолвился в этот вечер Островский о своих обидах, о скомканном юбилее, но обращением к артистам подчеркнул, в ком он видит единственную опору на русской сцене. Александрийские актеры часто огорчали его - пусть! С ними одними он здесь товарищ, собрат по искусству. Неудовлетворенный, разочарованный, уехал Островский домой - он знал, что его там ждут.
Ждут в Артистическом кружке, в клубе артистов, литераторов и музыкантов, основанном им еще в 1865 году вместе с композитором и дирижером Николаем Рубинштейном. Он мечтал, чтобы это был светлый, уютный дом, где артисты могли бы соединяться своей семьею, обмениваться впечатлениями, пробовать себя в новых ролях на клубной сцене; где бы творческие разговоры и литературные чтения заменили "графин очищенной" с соленым огурцом, а интеллигентный дух и тон вытеснили дешевое каботинство и актерское хвастовство. И мечта его начинала сбываться.
Ждут его в Москве и как старейшину драматургов - главу образовавшегося с 1870 года Собрания русских драматических писателей, которое в 1874 году получит статут Общества. Островский много сил положил и на это дело, и не зря: Общество впервые поставило русского драматурга в независимое от провинциальных акул-антрепренеров положение: теперь нельзя было играть пьесу без разрешения автора, ему должны были выплачивать и законную часть сбора. Трудами Островского, крупная рыжебородая фигура которого неизменно появлялась в зале или за председательским столом во время собраний драматургов, Общество поставит себя солидно: учредит Грибоедовскую премию за лучшие пьесы, займется литографированием драматических сочинений, составит образцовую библиотеку...
Но, главное, его ждет в Москве Малый театр и его публика, привыкшая при всех веяниях и переменах театральной погоды сохранять приверженность к своему земляку.
По возвращении из столицы его чествовали широко и хлебосольно, по-московски: возили из клуба в клуб, из собрания в собрание. Купцы устроили грандиозный обед у Тестова. Актеры приветствовали в Артистическом кружке. Писатели и драматурги - в Обществе любителей российской словесности. Говорили речи, читали приветственные стихи, преподносили подарки, букеты с вензелями, серебряную вазу с бюстами Пушкина и Гоголя... Гончаров был прав, обмолвившись, что Островский для Москвы стал чем-то вроде папы для Рима.
После холодного, неуютного Петербурга он чувствовал себя в Москве свободно, по-домашнему. Чем старше становился, тем менее охотно навещал он северную столицу. Но там, на Литейной, был дом, в котором всегда светил для него огонь и ожидало его признание и доброе сочувствие. Где слышен был громкий ворчливый бас Салтыкова и Некрасов встречал его на пороге кабинета обычным своим присловьем "отец"; где не хвастали ни народолюбием, ни аристократизмом и где искренности людей можно было верить.
Островский привык считать редакцию "Отечественных записок" своею и - шутка ль сказать - из года в год печатаясь здесь, поместил в журнале двадцать две свои пьесы, и среди них такие, как "Лес", "Волки и овцы", "Бесприданница". Пусть сердится на него старый друг Писемский (Островский "принадлежит к враждебному лагерю"), пусть негодует поздний "почвенник" Страхов ("Островский теперь сбрендил...") и косо поглядывает Достоевский. Он прочно связал свою судьбу с Некрасовым и останется верен его журналу. Журнал помог ему выйти из глухого тупика. С ним он начал писать и думать смелее, обрел новую жизненную опору и этого благодарной своей душой не забудет.
КОСТРОМСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ
О Щелыкове он начинал мечтать загодя, еще зимою. Едва экипаж, управляемый кучером Михайлой, спускался с горы и грохотали под колесами бревна мостика через Куекшу, сердце начинало колотиться. Вот и грубо тесанные въездные деревянные ворота, увенчанные круглыми шишками, широкая аллея, овал главной куртины - и лошади сопя останавливаются у крыльца светло-серого скромного дома с двумя парами деревянных колони по фасаду.
Скорее, скорее пробежать по комнатам и, распахнув балконную дверь, выйти на ступени лестницы, спускающейся к реке. Какой знакомый и всегда переполняющий счастьем вид! По зеленой луговой долине посверкивает узкой лентой Куекша, за нею - светлый лес, за ним зубцами другой - темнее, а дальше - самый темный террасами подымаются к горизонту. Справа, за оврагом, белеет колокольня церкви Николо-Бережки... И веет волей, простором, и запах цветущей черемухи и сирени наносит из сада.
Давно-давно, четверть века назад, впервые приехал он сюда с отцом. Ему только исполнилось двадцать пять лет, он мало куда выезжал за пределы Москвы и заранее состроил в воображении свое Щелыково. "Сегодня я рассмотрел его, - записал он на другое утро по приезде в своей тетради, - и настоящее Щелыково настолько лучше воображаемого, насколько природа лучше мечты. Дом стоит на высокой горе, которая справа и слева изрыта такими восхитительными оврагами, покрытыми кудрявыми сосенками и липами, что никак не выдумаешь ничего подобного" .

Понравился ему удобный, необычной архитектуры дом, и что он так поставлен, на горе "побольше нашей Воробьинской" - с чем еще было сравнивать? Но оказалось, в округе есть места настолько возвышенные, что оттуда и Щелыково кажется "как в яме".
Понравились ему и три реки, словно сестры, - меньшая, средняя и старшая, - сообщающие законченность и одушевленность красоте этих мест: тоненькая ниточка Куекши, текущей под самым домом, студеная, с каменистым дном Сендега в лесистых берегах и плавная, спокойная Мера, впадающая ниже по течению в Волгу. Непривычно и сладко звучали уху их древние мерянские имена.
Отец гордился Щелыковым, рассказывал его историю.
Сельцо вело свою родословную с XVIII века, когда один из "лейб-кампанцев", подаривших Елизавете Петровне царский престол, капитан Михаил Кутузов, завел здесь свое имение. Построенная им усадьба сгорела, но на ее месте сын его, костромской предводитель дворянства Федор Михайлович Кутузов, возвел уютный новый дом, которому суждено было стать приютом драматурга. Совладелец усадьбы Алексей Михайлович Кутузов, друг Радищева, был видный масон.

И не зря, наверное, в Щелыкове управляющим у братьев Кутузовых одно время служил просветитель Н.И. Новиков.

Николай Федорович купил имение с торгов у размотавших состояние наследников Кутузова. Имение было запущено, отец стал деятельно его благоустраивать: привел в порядок сад, построил теплицу. Он мечтал, чтобы Щелыково стало наследной вотчиной, и в тщеславной заботе насадил перед парадным крыльцом девять пихт - восемь кружком, в честь восьми живых детей, и одну в центре - в честь самого себя. (Была, во всяком случае, такая легенда, упорная, хоть и не подтвержденная.) Пихты уцелели и до недавних пор встречали вас перед домом. Одна из них - зеленая хранительница старшего сына, Александра.
Умирая, отец велел приподнять его с подушек, чтобы в последний раз взглянуть на окрестные леса, заснеженную февральскую долину. С тех пор деревья перед домом сильно вытянулись, парк по склону горы состарился, разросся и загустел...
Владевшая имением после смерти отца Эмилия Андреевна вела хозяйство, как умела. Оказалось, что жить в русской деревне - не то, что рассматривать родовой шведский замок на старинной гравюре. Все требовало заботы и рук; хозяйство приходило в упадок.
Чтя память покойного мужа, Эмилия Андреевна приглашала отдохнуть в Щелыково своих пасынков. Островский бывал здесь в 1857 и 1859 годах, а с 1863 года регулярно проводил в Щелыкове один-два летних месяца. Но все же это был не свой дом.
Своим он стал с 1867 года, когда они с Михаилом Николаевичем выкупили его у мачехи. "Вот мне приют, - радовался Островский, сообщая Бурдину о покупке "нашего великолепного Щелыкова", - я буду иметь возможность заняться скромным хозяйством и бросить, наконец, свои изнурительные драматические труды, на которые я убил бесплодно лучшие годы своей жизни".
Настроение, в каком писались эти строки, сродни пушкинскому: "Давно, усталый раб, замыслил я побег..." Островский всерьез рассчитывал тогда на коренную перемену жизни: вот-вот, мнилось ему, развяжется он с литературой и театром и заживет скромным сельским хозяином, частным человеком. Может быть, тогда и театр поймет, кого потерял...
Но мало-помалу выяснилось, что сделать из Щелыкова доходное хозяйство, которое бы кормило семью, не проще, чем писать пьесы. Да и пьесы, если говорить откровенно, все равно хотелось писать - не для театра, так для себя.
Первое время Островским владел хозяйственный энтузиазм. Он выписывал из Петербурга и привозил из Москвы семена и сельскохозяйственные орудия. Просил приятеля осведомиться в магазине Бутенопа, "что стоит ручная веялка и сортировка". Не доверяя старосте, сам присматривал за севом и молотьбой. Ходил в сенокос помогать мужикам шевелить и сгребать сено, пропадал в полях в горячую пору уборки. Его плотную фигуру с коротко стриженным круглым затылком, в белой или красной косоворотке и легких шароварах можно было видеть то в лугах за Куекшей, то на гумне.
В 1872 году он разбил по склону горы новый сад, в 1876 году соорудил маслобойню. Но масштабы хозяйства все же были мизерны: в лучшие годы засевалось до сорока десятин земли и больше четырех десятков коров да двадцати лошадей в конюшне и на скотном дворе не бывало. Агрономические познания Островского были самые дршетантские, и он не имел ни времени, ни усердия их расширить. Все велось, как водится: хлеб на северных землях родился скудно, молока коровы давали мало, и хозяйственное заведение едва окупало себя.
Об уровне щелыковских доходов дают понятие записи Островского в хозяйственной книжке, которую он поначалу понудил себя аккуратно вести: "Продано 2 мешка ржи- 1 р. 32 коп. Получено с мельника 2 р. 25 коп. Продано 6 гряд капусты 5 р. 90 коп.", или: "Продано старого железа-1 р. 70 коп., одна шкурка коровья - 3 р. 30 коп., 8 шкурок бараньих - 7 р. 20 коп.".
С такой негоцией трудно разбогатеть. Наемных работников требовалось понукать, подстегивать, распекать, а этим искусством Александр Николаевич владел дурно: его почему-то не боялись.
В 1871 году он решил построить в стороне от старого дома флигель для брата и гостей Щелыкова. Подрядчиком нанял Абрама Ивановича, человека с солидной бородой впроседь, красным носом и щечками, выдававшими его пристрастие к "косой барыне". Являясь к Островскому с планом дома за разрешением какой-нибудь подробности, он останавливался поодаль и, подбоченясь, произносил фразу, которая забавляла хозяина: "Прибегаю к стопам вашим". Напрасно, однако, веселился Островский, дело кончилось худо. "Они загуляли с Казанской и пили до Ильина дня, Ильин день и два дня после, - описывал драматург подвиги Абрама Ивановича своему приятелю Н. А. Дубровскому; - на третий день явились пьяные со смирением, слезами и с новоизобретенной фразой: приползаю к стопам вашим".
Едва рассердившись, Островский мгновенно остывал и прятал улыбку в бороде. Проклятый слух драматурга! Смешная фраза, казалось, искупала для него прегрешения неисправного работника.
Мудрено было чего-то достичь, управляя делами таким образом. Александр Николаевич побился, побился, понял, что хозяйство его не выручит, да и сдал его на руки Марье Васильевне.
С середины 70-х годов Марья Васильевна уже безраздельно царила и в московском доме и в имении, давала распоряжения, принимала доклады управляющего, определяла расходы, оплачивала счета из магазинов. В сельском хозяйстве она разбиралась не лучше Александра Николаевича, но управлять делами любила, хотя временами изнемогала от этих трудов и тогда колола его тем, что вот-де уволила его от неприятных забот и обо всем приходится радеть самой. Несмотря на молодые лета, глаз ее был придирчивый, строгий, в чужую добросовестность она плохо верила и еще зимой, из Москвы, отправляла в деревню такие рескрипты:
"Мой приказ, чтобы Коля строго следил, чтобы у кучера и у рабочих лошадей не было под ногами сена, чтобы понемногу давали. Каждую субботу обязательно, чтобы кучер вывозил навоз на поля; скажи Коле, куда класть. Чтобы Коля каждый день смотрел, когда коров кормят и посыпают ли всю посыпку, какую дают. Если Анна будет хлеб класть в помои так же, как и летом, то вычту из жалованья, так ей и скажи. Чтобы Коля смотрел также за кормом, когда кур и птиц кормят. Ключ от погреба обязательно был бы у Коли, чтобы Коля два раза в месяц при себе заставлял мыть кружки на капусте. Вообще, чтобы Коля был бы в усадьбе и сам бы делал, ходил бы везде и смотрел бы, как я делаю летом сама...".
В деревне она входила в любую мелочь, гордилась тем, что научилась жать и в страду могла пристыдить баб, хлопотала по дому и усадьбе, препиралась с крестьянами. Будем справедливы, она взяла на себя много тяжких забот.
К порубщикам и потравщикам Марья Васильевна была немилостива. Застав мужика за рубкой дерева в "господском" лесу, отчаянно его ругала, хоть редко отдавала под суд: знала, что Александр Николаевич не одобрит. А стоило чужой корове забрести в их луга, велела загонять на свой двор и долго выдерживала характер, пока крестьяне переминались у крыльца, мяли шапки и просили отпустить неразумную скотину. На шум выходил Александр Николаевич и просил, смиренно обращаясь к жене: - Выдайте, матушка, Марья Васильевна, скотину мужичкам.
Такой ли знали Марью Васильевну в театре, в званых гостях, в Петербурге, когда он брал ее туда с собою? Любезная хозяйка дома, очаровательная гостья с ниткой жемчуга в волосах, показавшаяся детям Бурдина сказочной феей, веселая, обольстительная и смешливая...
В будничной суете она преображалась. В амбаре или на кухне это была крепкая молодая барыня, "крикуша", "горячка", "огонь", не церемонившаяся с дворовыми людьми. "Скотина... сошлю... я убью ее, если узнаю..." - такие словечки слетали, случалось, с розовых уст хозяйки. Она, наверное, была права, когда говорила, что взяла на себя этот крест только ради него, ради его покоя, чтобы ничто не мешало ему писать. Но когда она была не в духе и расходилась, он зажимал уши, чтобы не слышать доносившийся из дальних комнат ее резкий голос, сердце начинало выбивать "трамблян-польку", и, захватив рукописи, он скрывался в отдаленный уголок сада, в высокую беседку, или уединялся во флигеле.
Он сам не заметил, как привык ей покоряться, и это еще усугубляло душевную замкнутость, пришедшую к нему с годами. Он боялся припадков ее беспричинной вспыльчивости, после которых она сама так изнемогала, что ложилась в постель, говоря, что у нее отнимаются ноги. Он садился рядом с ней, подавал ей лекарства, растирал ноги хлороформом и привычно твердил: "Не волнуйся, мамочка..." Марья Васильевна словно вымещала теперь обиды своего бесправного положения в первые годы их близости и жаждала постоянных подтверждений своей власти.
Островский жалел ее искренне, годы совместной жизни привязали его к ней, и он прощал ей ее слабости, огорчался ее болезнями. Подрастали дети. Комнаты верхнего этажа наполнялись звоном их голосов - и Островский чувствовал в такие минуты, как дорог ему его семейный очаг, его близкие и как хотелось бы ему лучше, надежнее устроить и обеспечить их жизнь. К 1877 году у них с Марьей Васильевной было уже шестеро детей. Чтобы прокормить и обиходить такую семью, работать приходилось много, неотступно, и чем дальше, тем больше понуждал он себя к работе. Черный призрак безденежья, нищеты, бедственного будущего для Саши, Миши, Маши, Сережи, Любы, Коли начинал являться ему.
Первые годы в Щелыкове Островский чувствовал себя как-то вольготнее и не так изнурял себя работой. Два месяца по приезде он старался не садиться за стол, а отдыхал, набирался здоровья. Деревенский ровный быт с его малыми радостями, природа, прогулки, ежедневное купанье у запруды восстанавливали его силы.
Отправлялись шумной компанией в лес по грибы и по ягоды, которых много родится в этих местах, плавали на лодке по Куекше, ездили пикником на Стрелку - знаменитый обрыв над Сендегой, и в луга с самоваром, наслаждались запахом только что скошенного сена. Островский любил и простые пешие прогулки: надев высокие сапоги, с палкой в руках, он ходил луговыми тропами и лесными дорогами к окрестным деревням, перебирался через речки по шатким березовым лавам, отдыхал по пути в заброшенной, почерневшей баньке или у сметанного стога.
И, конечно же, ловил рыбу. Ловил и в ясную погоду и в ненастье, укрывшись в деревянной галерейке, специально сооруженной на случай дождя у омута. Ловил и на самой запруде, с лодки, привязав ее цепью к кольцу, вделанному в стену старой мельницы... Вблизи дома стояли два бочонка с водой, куда Островский бросал свой ежедневный улов. Из них доставали рыбу по надобностям кухни.
Пока еще были силы и охотничий задор, ездил осенними вечерами с фонарем бить рыбу острогой в Сендеге. И несколько раз в лето затевал для гостей ловлю неводом на Мере.
Это было нешуточное предприятие. Выезжали в экипажах, целым "поездом". Сети везли на телеге, забирали с собою и самовар, и всякую снедь. Там, где река делает крутой изгиб, образуя так называемую "печку", любила стоять в жаркую погоду рыба. Здесь и закидывали невод и вели его по мелководью вброд.
Руководил этой ловлей приятель Островского - псаломщик Никольской церкви Иван Иванович Зернов, худой, длинный человек с редкой козлиной бородкой и в засаленной соломенной шляпе, из-под которой торчала сзади тощая косица, обработанная лампадным маслом. Вместе с залатанной рясой он сбрасывал с себя и всю присущую его сану святость и самозабвенно командовал мужиками, которые, не раздеваясь, в белых портах, забредали с неводом в студеную реку. Островский чтил Зернова и называл его щелыковским "морским министром".
Взятая неводом рыба тут же готовилась ухою, выставлялось домашнее угощенье - пироги, чара зелена вина, и все это съедалось и выпивалось у костра под веселый разговор.
Гости, которых Островский потчевал поездкой на Меру, бывали, понятно, в восторге. А гостей Александр Николаевич не то что любил, он просто не умел без них жить. Ему непременно надо было делить с кем-либо свои впечатления - иначе любой отдых, любая прогулка были ему не в радость.
Хлебосольные нравы Яузы привились на берегах Куекши. Принято было, чтобы дом был полная чаша. Еще по весне, в расчете на гостей, пудами везли из Москвы припасы - от Лапина бакалейный товар, от Филиппова - чай и сахар, от Байкова копченую и соленую рыбу, от Бостанжогло - табак. Остального вдоволь было в погребе, в саду и на огороде. Да еще, коли гость, собиравшийся в Щелыково, был человек свой, как, к примеру, молодой Садовский, Александр Николаевич просил его прихватить у Депре "бутылок двадцать лангорину" да у братьев Нарышкиных, что у Москворецкого моста, заказать "окорочек провесной, какой на вас взглянет, от 22 до 25 фунтов, прикажите его там сварить и уложить в лубочный коробок".
Добрых знакомых Островский зазывал к себе с какой-то ненасытностью. "Стеснить нас вы ни в каком случае не можете,- убеждал он в письме заробевшего гостя. - У нас такой обычай: чем больше гостей и чем дольше гостят они, тем лучше".
Гостей размещали наверху, на антресолях старого дома, или во флигеле. Чувствовали они себя в Щелыкове и в самом деле привольно. Приезжали на несколько дней, а жили неделями.
Марья Васильевна тоже была гостеприимна, любила "хорошее общество", новых людей, умела принять и накормить тех, к кому благоволила, и тогда особый мир и доброе спокойствие воцарялись в доме. Беда, что вкусы на людей не всегда у них с Александром Николаевичем сходились. А когда Марья Васильевна бывала не в расположении, она не любила этого прятать. В особенности доставалось тем бедолагам-актерам из неудачников, вечных перекати-поле, которые, как ей казалось, всегда вертятся возле Александра Николаевича и искушают его на несолидные поступки.
Первые годы живал в Щелыкове Иван Егорович Турчанинов, друг молодости Островского. Целыми днями он пропадал на реке: его худощавая фигура в пестром халате, подпоясанном кушаком, и белой фуражке вечно маячила на берегу, где он с утра занимал с удочкой свое любимое место. Потом Иван Егорович стал приезжать реже, будто обиделся на что-то. Потом совсем исчез. В 1871 году Островского известили, что он скончался в Нижнем Новгороде {Известивший Островского о смерти его друга П.И. Якушкин беспокоился, между прочим, о судьбе писем драматурга Турчанинову, оставшихся в чужих руках. Письма пропали. Но еще удивительнее, что в тщательно сберегаемом Островским личном архиве не оказалось после его смерти ни одного письма Турчанинова, как, впрочем, и никаких следов переписки с Агафьей Ивановной. Не подвергла ли Марья Васильевна селекции эту часть архива как неприятное ей напоминание о прошлой жизни Островского?}.
Бывал в Щелыкове и Костя Загорский, о котором шла молва, что у него подхватил Островский многие черточки для Аркашки Счастливцева, - веселый застольный рассказчик, выдумщик, анекдотчик, любитель выпить и посидеть в компании. Едва отвернется Марья Васильевна, выйдет на минуту из комнаты, и они с Островским срезают украдкой печати на наливках, стоявших рядком на окнах, или откупоривают тайком сохраненную Костей в рукомойнике своей комнаты фляжку "казенки". Марья Васильевна считала, что на Александра Николаевича плохо влияют все эти бражники, ревностно пеклась о его здоровье и невзначай разрушала доброе настроение и покой. Она дулась на неприятных ей гостей, и круг их заметно редел.
Не замечаешь, как сменяются эпохи жизни, спускаются под гору поколения, и вот уже нет прежних лиц, иные люди вокруг Островского, иные голоса.
Между 1864 и 1876 годом один за другим умерли старые друзья по "Москвитянину": Аполлон Григорьев, Рамазанов, Эдельсон, Алмазов, Дриянский. Ушли люди, с которыми он начал свой путь на сцене: Сергей Васильев, сестры Бороздины, Корнилий Полтавцев, Екатерина Васильева. В 1872 году скончался Пров Садовский..Еще раньше, в сентябре 1868 года, тихо угасла Никулина-Косицкая. От кого узнал Островский о ее смерти? Как отозвался? Ни слова об этом...
Будто косой срезало целое поколение. Новых, молодых друзей не обильно было, да и то сказать, такие тесные, близкие дружбы, как в молодости, трудно рассчитывать обрести под старость.
Конечно, были не одни утраты - "свято место пусто не бывает". Теперь часто гостили в Щелыкове молодые Садовские - Михаил Провыч и Ольга Осиповна. Появлялся сын Живокини - Митос, молчаливый увалень, ходивший тенью за Островским и влюбленно глядевший на своего кумира. Бывала в Щелыкове подружка Марьи Васильевны Н.А. Никулина, хохотушка, резвушка и отменная актриса, звавшая Островского "папкой". Приезжала молодая театральная чета Музилей. Образованный, тактичный, веселый Николай Игнатьевич не был принят в Малый театр, но поступил туда без жалованья - так любил сцену. Подобно Бурдину в Питере, Музиль в Москве ухаживал за Островским, брал его пьесы для своих бенефисов, был вернейшим его сторонником за кулисами и обаятельным собеседником в щелыковском домашнем кругу.
С участием гостей устраивались семейные праздники. 22 июля справлялись именины Марьи Васильевны. Балкон украшался венками из цветов, накрывался торжественный обед, а под вечер, едва стемнеет, зажигались плошки с огнем, цветные фонари в саду, и над обрывом взлетали праздничные ракеты-шутихи. В старой риге, на грубо сколоченных подмостках давался домашний спектакль. Торжественно отмечалось и 30 августа - именины самого Островского. В этот день помимо постоянных гостей Щелыкова по провинциальному обыкновению съезжались сюда окрестные помещики, знакомые из Кинешмы, судейские, с которыми Островскому приходилось иметь дело как почетному мировому судье, - люд более или менее случайный. Опустошение, произведенное временем в кругу близких друзей, нечем было восполнить.
Но не было в Щелыкове гостя из уцелевших ли друзей раннего призыва, как Бурдин или Горбунов, или новообращенных, которые, побывав тут, не мечтали бы приехать еще однажды. Гости не могли нахвалиться Щелыковым. А если от застенчивости или по какой еще причине хвалили недостаточно громко, не так, как хотелось бы хозяину, он, не боясь упреков в пристрастии, сам начинал расхваливать эти места. Его послушать - не было края изобильнее, щедрее и красивее. Места эти Островский называл костромской Швейцарией, говорил, что даже в Италии не встречал таких видов.
Он любил поразить воображение приезжих тем, что цветет и произрастает на его земле - угощал спаржей и разнообразнейшими салатами из парника, утверждал, что и табак он надеется со временем производить сам. (Как-то садовник Феофан высеял несколько зернышек табака в грунт, и, когда они взошли, ликованию хозяина не было предела.) Конечно, и воздух в Щелыкове был особенный, и климат необыкновенно здоровый, и почвы на удивление плодородные. На прогулке он имел обыкновение тоном гида обращать внимание гостей на редкостные особенности Щелыкова. Говорил, например, что в его имении находят железный колчедан, и останавливал своих спутников, чтобы они полюбовались каким-нибудь несравненным пейзажем. Порожцы на Сендеге сравнивал с Ниагарским водопадом, утверждал, что грозы в кинешемском уезде красивее, чем в Альпах (что с трудом выслушивала Марья Васильевна, смертельно боявшаяся грома и молнии: во время грозы она убегала в маленькую темную гардеробную и зарывалась в подушки). Сидя на скамейке в парке меж двух старых берез, откуда открывался диковинный вид с обрыва, он следил за плывущими облаками и, благодушествуя, утверждал, что и облаков таких нет нигде, кроме Щелыкова.
Художника отличает порой эта граничащая с чудачеством увлеченность. Щелыково в самом деле было прекрасно. А если Островский к тому же имел слабость им прихвастнуть, не беда! Вспомним лучше, что из того же источника самоободрения и наивной гордости бьет ключ чистой поэтической фантазии, покоряющей нас в "Снегурочке".
Давний замысел поэтического рассказа о берендеях снова ожил в этих краях, где в красоте островерхих изб с резным деревянным кружевом, бревенчатых ворот и амбаров грезился облик иной древней сказочной страны; где в духов и троицын день, как в старину в день Ярилы-солнца, на широкой зеленой поляне воздвигались шатры, кипел ярмарочный торг, девушки в венках из полевых цветов водили хороводы, пели песни, звучавшие отголосками стародавней старины.
Московская городская суета обременяла Островского болезненными, дисгармоническими впечатлениями, находившими исход в его современных сатирических комедиях. А природа и тишь Щелыкова говорили внятно о другой, волшебно-идеальной жизни, какой когда-то жили или еще должны были жить люди.
И он воссоздал в сказке эту желанную страну берендеев. Отрадно было пожить в ней хоть те часы, когда он воображал ее себе, прогуливаясь по берегам черемуховых речек или сидя в деревенском кабинете у стола, на который падала густая зеленая тень от разросшихся кустов сада.
Сердечный и мудрый правитель этой страны, царь Берендей, восседающий на троне в гриднице с резными узорчатыми столбами, верит в добро и лад между людьми и сам насаждает эту веру. В том, что Островский призвал в свою утопию идеального царя, нет, наверное, ни капли монархизма. Его царь - поэт, художник, он сам расписывает столбы в своей палате, ему любезна "игра ума и слова". А может быть, надо перевернуть метафору? Не царь-поэт, а поэт-царь, всесильный в защите поэтической справедливости, в создании красоты в подлунном мире...
Островский и в сказке не может расстаться с современностью. Берендей учит Бермяту глядеть "в сущность", "в глубину" и не обольщаться тем, что народ уж лет пятнадцать как живет благополучнее (не с поры ли реформы 1861 года?):
"В сердцах людей заметил я остуду
Не малую; горячности любовной
Не вижу я давно у берендеев.
Исчезло в них служенье красоте..."
Прекрасна надзвездная, неземная чистота Снегурочки. Прекрасна и опасна. Ею унаследованы две природы - живое, теплое начало любви от матери Весны и ледяное равнодушие отца Мороза. До поры она не умеет любить, ей нравится одна красота: слушать песни Леля - ее утеха. Но когда и ее сердце разбужено - она любит самозабвенно, разрушительно и гибнет, увлекая за собой Мизгиря. Гибель Снегурочки - укор "сердечной остуде" берендеев.
А настоящее, живое человеческое сердце, "горячее сердце" Катерины, Параши - не у Снегурочки, у Купавы. Ее любовь, ее страдание, ее теплые слезы по-человечески внятны всем. В ней нет ледяного холода красоты. Весенним ветром, зеленым маем, запахом полевых цветов напоен этот образ, и не зря ей отечески покровительствует царь Берендей.
Своей сказкой Островский не утешал, не убаюкивал - он продолжал думать свою думу о любви в современном мире, о жизни: как прожить ее и честно, и человечно, покоряясь природе и побеждая ее языческий дух?
Пьеса была столь неожиданна для "бытовика" Островского, что смутила первых ее читателей. Лев Толстой с неодобрением отозвался о "Снегурочке" при встрече. Островский защищался, говоря, что "и у Шекспира есть рядом с серьезными - сказочные", и приводил в пример "Сон в летнюю ночь". Даже Некрасов растерялся и, бегло прочтя присланную ему пьесу, ответил автору деловой запиской, очень его обидевшей. "Я, постоянный ваш сотрудник, в этом произведении выхожу на новую дорогу, - писал Островский Некрасову, - жду от вас совета или привета, и получаю короткое сухое письмо, в котором вы цените новый, дорогой мне труд так дешево, как никогда еще не ценили ни одного моего заурядного произведения". Островский передал "Снегурочку" в "Вестник Европы", пообещав, впрочем, Некрасову не прерывать с ним своего сотрудничества: "...я не нахожу никакой причины удаляться от журнала, которому я вполне и глубоко сочувствую"
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 03.04.2015, 19:32 | Сообщение # 38 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 291
Статус: Offline
| (Это недоразумение могло иметь неприятные последствия, потому что нашлись люди, которые обрадовались ему и хотели его разжечь. Романист Г.Данилевский, испытывавший давнюю и стойкую неприязнь к Островскому, писал А.С. Суворину: "Уж если что ругать, то новую пьесу "Снегурка" Островского. Там каждая страница просится в пародию, скука непроходимая. Сырья навалено из народных песен, "Слова о полку Игоря" и даже из А.Толстого и Мея - видимо-невидимо. Есть два стихотворных отрывка недурных, да и то отзываются стихами наших прабабок. Ну можно ли было печатать программу балета, феэри, как новая пьеса Островского? У Некрасова хватило чутья: несмотря на дружбу с Островским, прочел половину его пьесы, бросил и возвратил, сказав: "Скука!" А я прибавлю - крошево из песен Рыбникова и К0 - крошево, да еще недоваренное..."
Не слишком повезло "Снегурочке" и в первой постановке, хотя Островский сам ревностно обсуждал костюмы, декорации и волшебную машинерию, предложенную изобретательным Карлом Федоровичем Вальцем. Трудный эффект исчезновения растаявшей Снегурочки - за подсвеченными и постепенно густевшими струями воды фигура артистки Федотовой уходила в люк - удался как нельзя лучше. Но в целом московский спектакль не имел успеха.
Зато по-настоящему услышали и полюбили "Снегурочку" люди музыки. Чайковский за три недели горячо, увлеченно написал музыку к первой ее постановке, а несколько лет спустя Римский-Корсаков сочинил оперу на этот сюжет, сохранив почти весь текст пьесы в либретто. Композиторы утешили автора своим искренним восхищением его детищем.
Островский познакомился с Петром Ильичом Чайковским в Артистическом кружке в середине 60-х годов. Еще кончая консерваторию, молодой композитор написал увертюру к "Грозе". Эта драма очень ему нравилась. Но сюжет "Грозы" уже использовал для опоры приятель Островского В.Н. Кашперов, сочинивший, правда, нечто столь изысканное, что в "Искре" появилась пародия - "Итальянец в Калинове". Чайковскому пришлось отступиться. Впрочем, для оперы "Воевода" драматург дал композитору прекрасную литературную основу. Чайковский не был так придирчив и художнически деспотичен, как Серов, поссорившийся с Островским из-за либретто оперы "Вражья сила", по мотивам драмы "Не так живи, как хочется". Мягкий артистический характер Петра Ильича располагал к себе, и Островский охотно работал для него и с ним. Неизвестно, бывал ли Чайковский в Щелыкове, но дух поэзии этих мест, дух русской природы и волшебной сказки уловил по-своему чутко.
Для Островского и его бытовые пьесы и сказочная "Снегурочка" были чем-то одним: он не понимал, когда их сталкивали друг с другом. Все они возникли в нем, в его поэтической фантазии, а вместе с тем их жизненная подлинность была для него несомненна. Снегурочку он повстречал в Щелыкове. Как повстречал он здесь однажды и Мурзавецкую из "Волков и овец" и Ларису из "Бесприданницы"...
Поэтический, музыкальный строй угадывается в пьесах Островского. Достаточно прислушаться, как говорит Параша в "Горячем сердце", Лариса в "Бесприданнице", и мы различим всякий раз иную по тону, но несомненную музыку речи. Музыкальный строй определил и пьесу о первых русских актерах, написанную Островским к 200-летнему юбилею русского театра, - "Комик XVII столетия" (1872). Не зря уже в нашем веке музыкой слов в этой полузабытой пьесе восхищалась Марина Цветаева, назвав ее "образцовой по языку" - а уж кто, как не она, знала в этом толк.
В разгар щелыковского лета, когда считалось, что он отдыхает, когда наезжали гости, устраивались пикники, кричали в саду и под балконом дети, Марья Васильевна перекорялась с кухаркой, руководя варкой варенья, или бранила конюха, что плохо заседлал белую Красотку, на которой она собиралась в верховую прогулку, - он втайне был весь погружен в обдумывание пьесы.
Прежде чем он напишет в ней первую строчку, пьеса должна была сложиться у него в голове вся - со всеми лицами, их отношениями, завязкой и развязкой, ключевыми репликами, - только тогда он садился за стол. Разбуженные им химеры воображения, носившиеся поначалу как в первобытном хаосе, должны были улечься и проясниться в законченной красоте слова, движения и формы.
"...Рецензенты наши, публика, - возмущался Островский, - как часто среди них слышим: "Эта пиеса написана наскоро, не обделана, не выработана". Да понимают ли они, что я ничего не пишу наскоро, каждый сюжет обдумываю весьма долгое время, ношусь с ним целый год, грезится и видится он мне со всеми в нем лицами постоянно и не дает мне покоя до тех пор, пока не уляжется на бумагу"
Брат Островского - Петр Николаевич, хорошо знакомый с его методой сочинения, как-то молча сидел рядом с ним на траве с книжкой, пока Островский следил за поплавком. Он заметил, что Александр Николаевич хмурится, и понял, что он думает не о поклевках.
"- Ну что, - спрашиваю, - как пьеса?
- Да что, пьеса почти готова... да вот концы не сходятся! - отвечал он вздыхая".
О новой пьесе думал он и во время одинокой прогулки по парку, и за вечерним пасьянсом, которым любил "освежить голову" после работы, и за токарным станком во флигеле или с лобзиком в руках. Он навострился выпиливать узорчатые рамочки для фотографий: резные листья вьющегося плюща и винограда - работа щелыковского Берендея. Множество таких рамочек было раздарено им на память друзьям - Бурдину, Писемскому, Садовским. И в каждый узор дерева, в каждый завиток было потаенно впечатано то, что думал он о героях новой пьесы, пока рука его механически вырезывала прихотливые узоры на тонкой ясеневой дощечке.
Случайному гостю могло казаться, что он проводит дни в счастливом безделье. А между тем, гуляя с гостями, разговаривая с крестьянами, объясняясь с Марьей Васильевной, то есть разделяя все заботы прозаической, обыденной жизни, он постоянно жил воображением в другой, волшебно-театральной стране, которая год от году становилась шумнее, населеннее. Это не Замоскворечье его ранних пьес и не слобода Берендеевка только, а вся приволжская сторона, с городами, селами, усадьбами и лесами. Он свой в ней и в любую минуту обживет новый в ней уголок. Изучая место действия пьес Островского (такую работу провел недавно историк театра Е.Г. Холодов), можно составить даже ее топографическую карту.
В центре литературной губернии Островского - город Бряхимов, упоминаемый в нескольких его пьесах. Говорят, имя городу Островский нашел в русской истории - был такой пришедший потом в упадок городок на Волге, неподалеку от Васильсурска. Но сам Бряхимов больше напоминает Кострому или Ярославль: в этом городе пристань и вокзал железной дороги, бульвар над рекой с низкой чугунной решеткой, у которой застыла Лариса Огудалова, кофейня в конце бульвара, отель "Париж" на центральной улице города и трактир при нем, куда сманивает Робинзона Вожеватов. Есть в Бряхимове и летний сад, в котором играет нанимаемая местным антрепренером труппа; он возникает перед нами в "Талантах и поклонниках" и "Красавце-мужчине".
В бряхимовской губернии, чуть выше или ниже по Волге, расположен и уездный городок Калинов, напоминающий Кинешму. Как и во всех городишках Приволжья, в центре его торговые ряды Гостиного двора с приземистыми пузатыми колоннами, базарная площадь, собор, дом городничего; купеческие дворы за глухими высокими заборами, а по берегу реки - общественный сад с беседкой. А в пяти верстах от Калинова (см. указатель на дорожном столбе в пьесе "Лес", точно такой же вел с Галичского тракта к усадьбе Щелыково) - имение "Пеньки" госпожи Гурмыжской или усадьба Мурзавецкой: барский дом с террасой, куртины георгинов, парк с прудом и бескрайние леса вокруг.
Театральный мир Островского имеет не только свою топографию, но и свое постоянное население. И что удивляться, если его герои кочуют из пьесы в пьесу: мир, обжитой настолько, что в нем не чудо столкнуться с уже знакомой тебе физиономией. Так, появившись в комедии о "мудрецах", Глумов объявится потом в пьесе "Бешеные деньги". Аркашка Счастливцев, получивший свое крещение в "Лесе", возникнет в "Бесприданнице" под именем Робинзона, а затем в "Без вины виноватых" примет имя Шмаги. Вася Вожеватов из "Бесприданницы" будет виться вокруг трагика в "Талантах и поклонниках". Тит Титыч Брусков из комедии "В чужом пиру - похмелье" воскреснет в "Тяжелых днях". И по трем пьесам пройдется гоголем Миша Бальзаминов с развитыми кудрями и вздернутым носом, в последний раз слегка перегримировавшись в Платошу Зыбкина из комедии "Правда - хорошо, а счастье лучше".
Драматург живет в этом созданном им мире, и диво ли, что встречается время от времени со старыми знакомцами. В конце концов и ему и его постоянным читателям и слушателям эти герои начинают казаться едва ли не более реальными, чем десятки мелькнувших на жизненных перепутьях лиц.
Где мы встречали их? Где с ними виделись? Где слышали этот голос?
И пока Островский сидит на скамейке в парке, погруженный в свою думу, или спускается к реке в серой поддевке и мягких казанских сапогах, с загорелым, обветренным лицом, в широкополой шляпе и с грубо обструганной палкой в руках, тени этих людей бесшумно скользят за ним...
УСПЕХ И УДАЧА
"...И кончилась жизнь, и началось житие". С начала 70-х годов жизнь Островского вошла в ровную, наезженную колею. "Я отвык от людей и знаю только кабинет, - жаловался он как-то брату. - В Москве кабинет и в деревне кабинет, которые мне пригляделись и опротивели донельзя. Но вот горе: от всяких других впечатлений я приобрел какую-то особого свойства лень: пойдешь погулять или поедешь в Кинешму, - уж и тяжело, и тянет опять в тот же противный кабинет"
Однообразие сжимает дни. Годы летят быстро, не то, что в молодости. Жизнь, вписанная в колесо года, покоряется привычным ритмам. По весне собирались в дорогу и, едва просохнет грязь, чтобы проехать проселком от станции в тарантасе, отправлялись в Щелыково. Островский любил приехать сюда в мае, когда было еще не жарко, зацветала черемуха, шел хороший клёв, и он подолгу сидел над рекой с удочками в удобном кресле с пружинящей железной спинкой, которое смастерил ему кто-то из местных умельцев. Летом обдумывалась пьеса. В августе - сентябре он начинал писать, без сна и отдыха, не отрывая пера от бумаги, и за месяц или полтора заканчивал эту работу. К концу сентября пора было переезжать в Москву: здесь, по издавна заведенной традиции, ожидалась в октябре или ноябре премьера его комедии в Малом театре. Но прежде - спешная работа с переписчиками (вечно не хватало каких-нибудь двух-трех дней, а черновик, писанный карандашом, был грязен и приходилось надиктовывать), затем ожидание цензурных виз, чтение пьесы актерам, репетиции. А едва отшумит московская премьера - поездка в Петербург для постановки пьесы в Александрийском театре. И заодно - чтение корректур для первой книжки "Отечественных записок". В этих заботах незаметно проходила зима, а как только пригревало солнце и снег начинал таять, надо было опять собираться в Щелыково... С малыми вариациями такой круговорот повторялся из года в год.
Его личная биография, казалось, была исчерпана: событий, страстей, крутых поворотов, новых лиц не ожидалось впереди. Но длилось творчество - главное в его судьбе. Что ни осень, созревала, писалась, игралась на театре новая пьеса - и этим отмечена была в памяти дата:
1871 - "Не было ни гроша, да вдруг алтын";
1872 - "Комик XVII столетия";
1873 - "Снегурочка", "Поздняя любовь";
1874 - "Трудовой хлеб";
1875 - "Волки и овцы", "Богатые невесты";
1876 - "Правда - хорошо, а счастье лучше";
1877 - "Последняя жертва";
1878 - "Бесприданница";
1879 - "Сердце не камень";
1880 - "Невольницы";
1881 -"Таланты и поклонники";
1882 - "Красавец-мужчина";
1883 - "Без вины виноватые";
1884 - "Не от мира сего".
А кроме того, были еще переводы, переделки, пьесы, написанные совместно с Н.Соловьевым, П.Невежиным.
Внешние события его жизни были бедны, заурядны, но внутренним слухом драматург явственно различал ритмы эпохи, и огромная созидательная душевная работа тайно совершалась в нем. Новые идеи, замыслы, характеры носились перед глазами, все видевшими, напитавшимися долгим опытом жизни, бесконечно усталыми и вдруг загоравшимися молодым огнем.
Хотелось освободиться от гипноза проверенных, обеспеченных успехом форм. И в том, что он делал в последние годы, многое казалось пробой, исканием: иной раз неудача, а иной - поразительные прозрения, доступные лишь свежим силам и чуткому к современности таланту. Но когда на другой день после премьеры почтальон приносил в дом свежие газеты, Островский раскрывал их с недоверием и опаской...
Газеты писали:
"Не то прискорбно, что г. Островский написал слабую пьесу а то, что в ней он изменил своему таланту... Это не художество, а жалкая подделка под него..." ("Голос", 1870).
"Не знаем, чему больше удивляться: наивности ли г. Островского, предполагающего, что российскую публику можно тешить и подобными комедиями, или легкомыслию российской публики... Как измельчал талант первого нашего драматурга!" ("Дешевая библиотека", 1871).
"Г. Островский обратился ныне по воле судеб в писателя, "отрыгающего жвачку", и этим-то именно объясняется та скорость, которая в последнее время заметна в деятельности г. Островского" ("Петербургский листок", 1872).
"Все, без исключения, комедии г. Островского несколько вялы и более или менее страдают водянкой..." ("Голос", 1872).
"...Он пережил свой талант" ("Новое время", 1872).
"О, г. Островский! Отчего вы не умерли до написания "Поздней любви"?" ("Гражданин", 1873).
"Десять лет безостановочного падения, десять лет сползания под гору... Г. Островский, помилосердствуйте и пощадите свою прежнюю славу!" ("Петербургский листок", 1875) и т.д. и т.п.
Отчего эти газетчики, получавшие по три копейки за строку, считали себя вправе писать так пренебрежительно, грубо?
Собиравший в начале века критику об Островском - Н.Денисюк, пораженный обвалом хулы, обрушившейся на драматурга, припомнил, как в неком журнале XVIII века было сказано, что один приятель "покритиковал другого доброю великороссийскою пощечиной - и сия критика весь бал кончила" Вот она точная этимология слова!
Островский старался сохранить невозмутимость, делал вид, что его не трогает газетная брань. Говорил, будто не прикасается к критическим статьям, ибо бодрость духа ему дороже. С благодарным чувством вспоминал о Добролюбове, Аполлоне Григорьеве. Он не находил в современной словесности тех, кому пристало бы называться критиками. Критиков сменили фельетонисты. Даже либеральные литераторы - А. Скабичевский, П.Боборыкин обнаруживали досадное непонимание его пьес. Демократический журнал "Дело" поместил о нем статью Д.Языкова (Н.В. Шелгунова), называвшуюся "Бессилие творческой мысли"... Что ж говорить о мелких, жадных до сенсаций, глядящих в рот один другому газетчиках! Они прислушивались к тому, о чем толкуют партер и ложи, вынюхивали влиятельные мнения и несли их читателю как последние откровения своего пера. Доблестью считалось написать фельетон заранее, накануне премьеры, не видя спектакля. "Никогда театральная критика не была бестолковее, пристрастнее и озлобленнее, чем в последнее время", - писал Островский.
Как бы он ни бодрился, как бы ни презирал эти комариные укусы, но когда в воздухе звенел целый рой газетной мошкары, это лишало его душевного покоя.
"В последнее время я дошел до крайней нерешительности - признавался он в письме Некрасову 8 марта 1874 года; - обруганный со всех сторон за свою честную деятельность, я хочу быть прав хоть перед своей совестью; я не выпускаю нового произведения до тех пор, пока не уверюсь, что употребил на него все силы, какие у меня есть, а на нет суда нет".
При общей потере вкуса к серьезному искусству, не жаловала Островского и избранная публика, александрийский партер. Это поветрие задело и Москву, хотя по-прежнему зрительный зал Малого театра был полон в день премьеры его комедии и не было "додору до билетов". "Новая пьеса Островского. Этих трех слов достаточно, - писал обозреватель "Современной летописи", - чтобы, несмотря на цены, возвышенные более чем втрое, театр заполнился своеобразной публикой. Представители этой публики входят в партер в калошах и лисьих шубах, и когда станет жарко, развешивают эти шубы на спинках кресел..." Но не эта публика и не студенческий раек определяли приговор пьесе. Выходя из подъезда театра, знатоки пожимали плечами, цедили односложно: "исписался", "падает" - и мнение это подхватывалось газетами, разносилось тысячеустой молвой.
Нет успеха. Но значит ли, что автора постигла неудача? Ведь успех и удача только по созвучию слова - родственники, а вдуматься, так бывает успех без удачи, как, впрочем, и удача случается без успеха. Конечно, горько переживать падение пьесы, и каждый неблагоприятный отзыв о ней ранит автора. Но можно рассудить и так: удача приходит к драматургу за письменным столом, а ждет или не ждет ее успех, когда поднимется театральный занавес, это, как говорится, "в руце божией".
Что могло сравниться с успехом на обеих императорских сценах переводного водевиля "Воробушки" или оперетки "Синяя борода"? А было ли это удачей театра? И, может быть, очевидный неуспех "Леса" в Петербурге и "Бесприданницы" в Москве важнее иного легкого успеха и, на дальний расчет, все равно удача драматурга?
Кто знает, так или не совсем так рассуждал Островский, в досаде откладывая в сторону газету с очередным развязным фельетоном. Но вполне равнодушным к этим обидным толкам он оставаться не мог.
Когда-то его упрекали, что действие его драм эпически неторопливо, что он не владеет интригой, искусством развязки. Добролюбов был прав, защищая его: куда труднее научиться писать "пьесы жизни". Но он учился и театральной технике, которой более мелкие таланты, как Боборыкин, придавали всегда чрезмерное значение. Островского уже переводили во Франции, когда он решился сказать, что умеет теперь делать пьесы "не хуже французов".
Стоило, однако, написать такую комедию, как "Поздняя любовь" или "Волки и овцы", с идеально слаженным механизмом сюжета, стройной архитектоникой, мастерски собранными в один пучок нитями действия, как на него посыпались упреки, что он отдал дань эффектной постройке на французский лад в ущерб самобытному сценическому творчеству. Пустое!
Островский писал по-новому не потому, что заразился сценическими успехами Сарду или "нанюхался", как говорил когда-то его друг А.Григорьев, Ожье и Фелье. Сочинения этих драматургов стояли на полках его библиотеки, он читал их с профессиональным любопытством. Техника техникой, но не в ней только дело. Замечали у Островского энергию действия, резкость ритмов, остроту диалога - и думали, что это черта сценической литературы. Это была, скорее, черта жизни, времени, обуреваемого темными страстями и аферами, чреватого крутыми развязками, повенчавшего родную Азию с модной "европеизацией".
Вот, к примеру, родной его город. Где, в каком стародавнем прошлом осталась та Москва, которая спала, благодушествовала, объедалась, била в церквах благочестивые поклоны? Москва, где не смели курить на улицах, чиновники не носили усов и бород, блины ели только на масляной неделе. Где стоял будочник с алебардой и бытовало добродушное обывательское присловье: "Мне все нипочем, был бы буточник знаком". Где свахи в цветных платочках, гуляя из дому в дом, заменяли свежую газету. Москва с ее знаменитой Ямой у Воскресенских ворот, кофейней Печкина и трактиром Турина, где такие сладкие велись разговоры о подовых пирогах, расстегаях, осетрине и пожарских котлетах?
Ушла, пропала та Москва, запечатленная в "Банкроте" и "Бедной невесте", и когда он хотел вспомнить о ней в какой-нибудь новой своей пьесе, заглянуть в сохранившиеся чудом прежние ее уголки, он должен был, как бы извиняясь, отмечать всякий раз: "Сцены из жизни захолустья".
Теперь сияли газовыми лампионами на Тверской и на Кузнецком современные витрины, мелькали пролетки на дутых шинах, будочников заменили полицейские с орлом на фуражке, на улицах встречались косматые студенты с папиросой во рту и стриженые девицы в синих очках и длинных темных юбках. Другой обозначился стиль жизни, вся ее внешность.
Да это ли главное? Незаметно менялся сам психологический склад, нравы, понятия людей. Купцы - теперь уж не хозяева лавок Гостиного двора, а "полированные" негоцианты. Не узнаете? "Вам нужно черновой отделки, без политуры и без шику, физиономия опойковая, борода клином, старого пошибу, суздальского письма?" - с усмешкой спросит за автора Барабошев в пьесе "Правда - хорошо, а счастье лучше". Да и не об одних купцах речь.
Ну можно ли было когда прежде, не рискуя впасть в карикатуру, представить на сцене таких героев, как холодно-цинический Беркутов или соединившая преступное интриганство с религиозным ханжеством Мурзавецкая? А можно ли, скажите на милость, вообразить еще недавно в жизни такую историю, как разоблачение игуменьи Митрофании? Говорили, и не без основания, что именно это уголовное дело подсказало Островскому сюжет комедии "Волки и овцы".

Митрофания была игуменьей Серпуховского Владычного монастыря и главой епархиальной общины сестер милосердия. В октябре 1874 года ее судили за открывшиеся аферы - подделку векселей, подложные заемные письма, подкуп юристов. Процесс привлек к себе внимание, как редкий в России случай суда над высшим духовным лицом. Женщина непомерного властолюбия и честолюбия, бывшая в миру баронессой Прасковьей Григорьевной Розен, Митрофания считала себя непогрешимой. Она дерзко шла на фабрикацию фальшивых векселей, обирала богатую купчиху, оправдывая себя тем, что печется о благолепии обители и богоугодного приюта. Сознание своей святости помогало ей присваивать и церковные доходы. А.В. Никитенко записал в своем дневнике, что этот процесс "обнаружил во многом скверное состояние наших нравов".
Островского привлекло в этом деле соединение огромных личных притязаний и хищнических страстей с религиозным ханжеством современного Тартюфа в юбке. Монастырь он не решился изобразить, зная, что поругания церкви не допустит цензура - на этот счет вымарывались даже самые невинные словечки. Но подумал: мало ли святош и хищниц с той же самовластной психологией встречается в ином звании и в иных местах - такова, к примеру, недальная его соседка по Щелыкову помещица Молчанова в селе Покровском... И он сделал Мурзавецкую помещицей.
Впрочем, публика без труда распознала, о чем идет речь в комедии, и рецензенты отдавали должное эффектному, почти символическому появлению Мурзавецкой, когда она, вся в черном, опираясь на палку с набалдашником слоновой кости, с целым хвостом одетых в черное приживалок, молча следовала через всю сцену, едва замечая поклоны выстроившейся по сторонам челяди. Настоящий архиерейский выход! Да и сами словечки "послушание", "монастырь", отнесенные в комедии к мирскому быту, намекали прозрачно на прототип. А за этим святошеством приоткрывалась психология хищничества, не ведающего преград совести, - настоящее знамение времени.
В 70-е годы Островский вообще стал охотнее брать сюжетом события уголовной хроники. Как раз в эту пору он был избран почетным мировым судьей в Кинешемском уезде, да и в Москве в 1877 году отбывал обязанности присяжного в Окружном суде. Хоть он и боялся за свое здоровье ("там так холодно, что я должен сидеть в калошах и возвращаюсь оттуда в лихорадке"), но день за днем отсиживал в суде двухнедельную сессию. Внимательно следил за ходом процессов, общался с адвокатом Плевако и другими известными юристами. По старой памяти он и себя считал "судейским" и относился к этим своим обязанностям с трогательным старанием и серьезностью.
Сюжетов судебные процессы давали хоть отбавляй. Но разве дело только в сюжете? Подобно Достоевскому, строившему на уголовной хронике свои романы, Островский понимал, сколько животрепещущего современного материала, взрывчатой энергии житейских страстей аккумулировано в судебных протоколах.
Есть предположение, что сюжет "Бесприданницы" навеян Островскому делом об убийстве из ревности, слушавшимся в Кинешемском мировом суде. В этом суде Островский был своим человеком - всех знал, все его знали. Дело об убийстве мужем из ревности своей молодой жены прогремело на весь уезд. За кулисами этого скандального дела стоял Иван Александрович Коновалов - прототип Кнурова, волжский миллионщик, содержавший целый гарем и известный своей развратной жизнью. (Передавая мне эти подробности, старый кинешемец Николай Павлович Смирнов рассказывал, что его соученик по гимназии, будущий писатель Дмитрий Фурманов намеревался одно время писать роман о Коновалове "По следам "Бесприданницы".)
Высказывалась догадка, что и в "Последней жертве" отразился процесс "Червонных валетов". Вадим Дульчин возник будто бы из недр компании молодых аферистов, живших на чужой счет, альфонсами богатых барынь, и не брезговавших в привычке к широкой жизни даже подложными векселями. А "Без вины виноватые" навеяны скандальным делом московского миллионера Солодовникова, обездолившего своих "незаконных" детей.
Но взятый из жизни рассказ был лишь сырьем, богатой породой, из которой выплавлялась пьеса. По дороге она вступала в реакцию с другими впечатлениями, обогащалась "присадками" воображения, обретала крепость, стройность, форму - и оживала для новой, второй жизни.
"Все наши сюжеты заимствованы, - говорил Островский Д.В. Аверкиеву. - Их дает жизнь, история, рассказ знакомого, норою газетная заметка... Что случилось, драматург не должен придумывать; его дело написать, как оно случилось или могло случиться".
Вызванные к жизни памятью и воображением лица вступали в сложные отношения друг с другом, путали заранее приготовленную им логику, уводили течение диалога в непредвиденную сторону. Тут и главная забота драматурга: сюжет менялся, перекраивался, перевоплощался на ходу.
С 1874 года занимал Островского замысел пьесы "Жертвы века", позднее названной "Попечители".
"Старик, влюбленный в молодую вдову, старается под видом попечительства и покровительства разлучить ее с любимым молодым человеком, в чем и успевает. Молодому человеку подставляют девушку, выдавая ее за богатую невесту: он увлекается и изменяет вдове. Та, не перенеся измены, сходит с ума, а он, узнав об этом, в припадке отчаяния лишает себя жизни".
Мало кто узнает в этой беглой канве комедию "Последняя жертва". Вдова - несчастна и благородна, молодой человек - несчастлив и слабодушен, и лишь старик-попечитель отъявленный интриган. В "Последней жертве" все иначе. "Когда играешь злого, ищи, где он добрый", - советовал Станиславский. Похоже, что Островский предвосхитил его совет, стал искать для героев светотень, и результат получился неожиданный. Дульчин, как и подобает "червонному валету", обирает Юлию и, конечно, вовсе не кончает с собой, а лишь играет фарс с револьвером, чтобы произвести похлеще впечатление. Прибытков - глава солидной купеческой фирмы нечто вроде "русского Домби". Но этот купец с современным "тоном" (слушает Патти в опере, завешивает стены картинами - "Я копий не держу-с") не способен на мелкое мошенничество: он и так все получит за свои деньги. А главное, сама Юлия - никак не романтическая героиня, сходящая с ума от несчастной любви. Живая, страстная, простодушная, она лишена в привычном смысле добродетели и готова выманить за поцелуй деньги для своего возлюбленного у богатого старика {Театровед Л. Я. Альтшуллер предполагает, что история Юлии была навеяна Островскому судьбой актрисы Ю.Линской. Линская ушла со сцены, выйдя замуж за состоятельного человека, стала богатой вдовой, а потом вернулась в театр и, обобранная своим возлюбленным, умерла в нищете.

Пропитавшись современностью, пьеса потеряла черты сентиментальной мелодрамы и превратилась в комедию нравов. Дульчин - герой "кредита", как Васильков был некогда героем "бюджета". А его избранница - современная женщина "без предрассудков" и все же непритворная чувством и переживающая в сотый раз обман доверия: сколько ее ни учи, а всякий раз у нее перед обманом широко открытые удивлением глаза. Далек от прославленной пьесы и начальный сюжет "Бесприданницы".

Актер Модест Писарев рассказывал его со слов Островского так: "На Волге старуха с тремя дочерьми. Две разухабистые, и лошадьми править, и на охоту. Мать их очень любит, и им приданое. Младшая, тихая, задумчивая, бесприданница. Два человека влюблены. Один деревенский житель, домосед, веселиться, так веселиться, все удается у него. Читает "Апостола", ходит на охоту. Другой нахватался верхушек, но пустой. Живет в Питере, летом в деревне, фразер. Девушка в него влюбилась, драма". "Нынешняя "Бесприданница", - добавлял от себя Писарев, повторяя расхожее мнение, - бесцветное, кургузое произведение".
Трудно найти здесь что-либо общее с прославленной пьесой. Лишь смутно рисуется во "фразере" профиль Паратова. Старших сестер Ларисы Островский тоже оставил за порогом пьесы, уведя их в предысторию. Зато Ларисе отдано все его внимание, ее драма получила социальный смысл, разработана в глубину, к тайным психологическим истокам. Вопреки мнению М.Писарева из начального наброска возникло не "бесцветное, кургузое произведение", возникла гениально-новая пьеса.
На рукописи "Бесприданницы" Островский пометил: "opus 40". Он вел строгий счет своим оригинальным сочинениям и на сей раз возлагал на "юбилейную" пьесу большие надежды. Начальнику репертуара П.С. Федорову он писал, посылая рукопись: "Этой пьесой начинается новый сорт моих произведений".
Пьеса и впрямь была необычна. Малозамеченная и не оцененная современниками, она выбивалась из традиций бытовой драмы. Какая-то иная природа сценичности чувствовалась в ней.
Действие начато на высокой площадке над Волгой. Автор прорывает плоскостную декорацию, дает трехмерный фон - реки с бегущими по ней судами, заволжских далей, деревень и полей. Здесь самое место рассказать о страданиях поэтической души, побыть с нею на ее духовных вершинах. Но на той же площадке кофейня: суетная и нечистая жизнь губернского города, болтовня слуг, праздные разговоры.
Название пьесы читается как бытовое объяснение беды Ларисы: она бесприданница. Но одиночество ее так огромно, что, мнится, причиной тут не одна необеспеченность, бедность, а вообще песок, местность души с этим миром.
Вот она садится в первом действии у решетки низкой чугунной ограды и молча, долго-долго смотрит в бинокль за Волгу. Кругом кипят копеечные страсти, борьба самолюбий, мелкие вожделения, а Лариса одна, совсем одна, наедине со своими мыслями и мечтами... Нехотя, как бы очнувшись, возвращается она в окружающий ее мир.
По особой затаенности и сложности душевных переживании героини - поэзии недосказанного - "Бесприданница" предвосхищает поэтику чеховской драмы.
Брат Островского - Петр Николаевич, хорошо знакомый с Чеховым, писал ему в 1888 году: "В последние 10, 15 лет мы совершенно утратили понимание русской жизни. За эти годы совершилось многое: изменился весь прежний строй общества, разложились окончательно прежние сословия с их крепкой типовой жизнью, увеличился чуть не вдесятеро личный состав среднего общества, народился интеллигентный пролетариат; люди иначе, не по-прежнему чувствуют жизнь, приспосабливаются к ней, веруют и не веруют, иначе ищут душевного равновесия...".
Вероятно, все это не раз было переговорено им и в домашних неторопливых беседах с Александром Николаевичем. Островский любил "брата Петю", в их семье он был близким, домашним человеком. Бывший саперный офицер, человек оригинального склада, он был принят в дом еще и как крестный старших детей Островского - Александра, Миши и Марии. Петр Николаевич принадлежал к тем русским людям, которые при внешнем здравомыслии обладают каким-то "неправильным", будто грубо затесанным, корявым, но сильным, самобытным до вызова умом: величайшая проницательность и смешная наивность идут у них рядом, а случайный экспромт мысли они отстаивают с той же горячностью, что и глубокое убеждение.
Петр Николаевич был всегда неравнодушен к театру и при покровительстве старшего брата издавал даже в 1877 году "Театральную газету", вскоре, впрочем, заглохшую. В памяти современников он остался талантливейшим, но не осуществившим себя человеком, чудаком-одиночкой. Узнавший его в 80-е годы Чехов находил, что хотя взгляды его напоминают перепутанную проволоку ("посмотришь на него справа - материалист, зайдешь слева - франкмасон"), он обладал редкостным критическим даром. Рыжеватый, скромный, он дымил плохой сигарой и обыкновенно помалкивал. Но если уж раскрывал рот, то не попусту. Автор "Степи" и "Иванова" прислушивался к его советам. В конце жизни для Островского "брат Петя" был нередко первым читателем его пьес, домашним критиком и помощником, и вот почему нам особенно интересны его суждения. Петра Николаевича возмущала узкая бытовая мерка, с какой подходят к пьесам Островского, не слыша его "хрустальной поэзии". Он защищал брата от упрека в "несценичности", говоря, что сам по себе язык Островского стоит всяких сценичностей: "Это живая жизнь, которая прямо дышит на вас!"
Наблюдения над современной драмой привели его к теории "психического кризиса". Петр Николаевич считал, что в основе драмы должно лежать не всякое жизненное положение, а лишь такое, которое "захватывает человека во время и в состоянии психического кризиса, т. е. в состоянии новой комбинации душевных сил, неясной сначала для самого героя, и из которой вытекают последствия совершенно неожиданные для него и для других; напр., назревшее решение, лопнувшее терпение, возникшее воспоминание, прорвавшееся чувство... вообще нечто медленно подготовлявшееся и вдруг открывшееся сознанию".
Александр Николаевич мог слышать от него все это, когда сам искал новых путей в драме, а может быть, и натолкнул на эти мысли своего брата...
В "Бесприданнице" зритель встретит героиню в критический момент судьбы. Накал велик, пережитое прошлое тайно присутствует в любой минуте нынешней жизни Ларисы: "Каждое слово, которое я сама говорю и которое слышу, я чувствую. Я сделалась очень чутка и впечатлительна". Здесь уже пылали страсти, созидались и рушились миры, надежда сотни раз сменялась разочарованием - и обуглена у Ларисы душа. Возвращение Паратова - последнее обольщение, поманившее обманом счастье, после которого - обрыв, кризис, нравственный слом.
Аверкиев вспоминал, что Островский, вслед за Аристотелем, делил пьесы на те, интерес которых составляет действие, и на те, в которых автора занимает характер. В "Бесприданнице" это характер Ларисы. Но такое деление можно дополнить другим. У Островского были пьесы, написанные на готовую мысль, пьесы с заранее внятным результатом, поучением. Таковы "Бедность не порок", "Пучина" или "Трудовой хлеб". Но были и пьесы-искания, пьесы с внутренней неразрешенной проблемой. Не пьесы-ответы, а пьесы-вопросы: художник и для себя хочет разрешить вставшую перед ним загадку характера, положения или судьбы. И это как раз самые яркие его взлеты, самые крупные вершины: в полдень жизни "Гроза", ближе к закату - "Бесприданница".
Чем больше живешь, тем больше понимаешь жизнь и тем меньше склонен учить. В такой пьесе, как "Бесприданница", подкупает не только мысль художника - мысль нравственная и гуманная. В ней сама глубь жизни, желание постичь ее загадку, коснуться живой диалектики доброго и дурного в людях. И тут шаблон готового морализма отлетает как старая шелуха.
Прежде в пьесах Островского было больше "типового" начала, того, что отвечает сословному, бытовому положению героя. В Ларисе важна ее личность. Прав был Петр Николаевич: в жизни суживалась почва социального быта, зато расширялась сфера познания души, ее мук и противоречий. Появлялось все больше людей, не принадлежащих исключительно ни к одному слою общества, несущих черты бессословной интеллигенции.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 11.04.2015, 17:23 | Сообщение # 39 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 291
Статус: Offline
| Слово "интеллигенция", привитое русской речи, как говорили, стараниями Боборыкина, звучало непривычно, вульгарно, смутным казалось и понятие (Уже в 90-е годы, проглядывая рукопись о своем покойном брате-драматурге, подготовленную П.О. Морозовым, М.Н. Островский отчеркнул в некоторых местах слова "интеллигентный", "интеллигенция" и поставил вместо этого на полях: "образованный человек", "человек образованного круга". Новизна понятия, слова одиозного в публицистике М.Н. Каткова, его смущала). Но та психологическая подвижность и утонченность, внутренний драматизм души, подспудное течение чувства, какие в конце века связывали с героями "Чайки" или "Дяди Вани", уже обозначились в жизни.
По-новому воссоздать трагедию женской души - души поэтической, мечтательной, самолюбивой и гордой казалось Островскому очень современной и привлекательной задачей. Лариса - жертва мира, где все продается, где все чужие друг другу. Но она и его часть. Женской кротости в ней ни на грош; нет и простой цельности женщин с горячим сердцем.
Островский писал новой актрисе Александрийской труппы М.Г. Савиной, что все его пьесы писаны им "для какого-нибудь сильного таланта и под влиянием этого таланта..." "Грозу" он писал когда-то для Косицкой, обладавшей даром нести в зал переживания цельной, открытой души. Лариса предназначалась им для молодой Савиной - актрисы высокоталантливой, но лишенной на сцене обаяния открытости, щедрого сердца, зато обладавшей современным "нервом", обольстительными переходами от душевного холода к жаркой страсти. "Савина, при ее средствах, должна свести с ума публику", - предвкушал автор.

В Петербурге и в самом деле пьеса, на удивление, прошла лучше, чем в Москве. Но критика отнеслась к ней с обычным высокомерием. В Ларисе видели "сентиментальную мещаночку" и то, что было жизненной сложностью ее психологии, относили за счет размытых красок, ослабевшего пера драматурга. Трагикомизм, заметный уже в "Последней жертве", не был понят как намерение художника. От него хотели "чистой" драмы или "чистой" комедии. А он по-прежнему писал пьесы жизни, но жизни иной поры.
Комедии, написанные после "Бесприданницы" - "Невольницы", "Сердце не камень", "Красавец-мужчина", "Не от мира сего", - совсем уж не имели успеха, а если имели, то с неожиданной стороны. Газеты начала 80-х годов отмечали как некоторую дерзость, что в пьесе "Красавец-мужчина" драматург впервые показал тип сутенера, заговорил о фальшивой процедуре развода. Причем главной "изюминкой" пьесы находили то, что прямо на сцене подстраивалось уличение жены в "грехе", требуемое формальным законом, - тогда много шумели об этом. Острой репликой на "злобу дня" считали и пьесу "Без вины виноватые"; в ней автор коснулся прав "незаконных детей" - тоже по внешности модная, "либеральная" тема.
Но Островский-то понимал дух времени иначе, чем газетные фельетонисты. Что называть современностью? Есть современность часа, дня, года, века. Есть современность примет, облетающих за один сезон, и современность новых душевных сдвигов, отвечающих переменам в социальном "материке" и бытующих по меньшей мере десятилетия. К такой современности, отвоевывающей себе место в "вечности", Островский тяготел куда более. Все сюжеты его поздних пьес в сфере личной, семейной, домашней. Старая, как мир, тема: любит - не любит. Любит того, кто не любит ее - ее любит тот, кого она не любит...
Вот они проходят перед нами, одна за другой, со скорбными, усталыми, просветленными лицами - кроткие и страстные, терпеливицы и мученицы - женщины поздних пьес Островского. Обстоятельства жизни, то, что несколько отвлеченно зовут "судьбою", неизменно враждебны им. Но как по-разному ведут они себя в этих обстоятельствах! И как несходны, при всем родстве "вечно женских" черт, их характеры!
Кроткая, послушная, беззащитная Вера Филипповна; страстная, эгоистическая, лживая Евлалия; чистая, цельная, наивная Зоя; слабая, кроткая, доверчивая Ксения...
Мужчины в тех же пьесах - однообразнее, беднее жизнью души. Ими чаще руководят корысть, мелкие вожделения. Печать века, среды и обстоятельств глубже вырезывается на их лицах: желание покрасоваться, погоня за богатым приданым, поиски "невесты с золотыми приисками". Паратов, Окоемов, Мулин, Ераст, Кочуев не умеют любить, знают одну выгоду, легко обманывают. Стыров, Коблов, Коркунов - люди старого завета, если и любят, то тяжело, по-домостроевски самовластно.
Петербургский актер Варламов как-то упрекнул Островского в том, что в своих пьесах он идеализирует женщину. "Как же не любить женщину, она нам бога родила", -шутливо отозвался Островский.
"Красота спасет мир", - говорил Достоевский. Мир спасет добро, утверждал Толстой. Островский не стал бы отрицать, что за каждым из этих утверждений есть толика истины. Но несомненнее для него другая максима: мир спасется любовью.
Женщины его поздних пьес несут в себе огромную энергию любви, привязанности, самоотвержения. Но эти дары души никому не нужны. Порывы их расточаются в пустоту, сами они гибнут...
Последняя пьеса Островского "Не от мира сего" задумана была как завершающая песнь, грандиозный прощальный гимн этой теме. Пьеса не удалась. Она совсем провалилась бы в Петербурге, если бы не игра гениальной Стрепетовой. Сказались усталость, болезни слабеющие силы. Но замысел ее, сам лирический тон был смел и нов, и мастеру не хватило, быть может, последнего напряжения сил, чтобы сделать ее вещью, которая встала бы в ряд его шедевров.
А пьеса о бесприданнице осталась жить навсегда. Заново открытая для русского репертуара Верой Комиссаржевской, сыгравшей Ларису годы спустя после смерти автора, она показала, как поспешны были газетные судьи и какая пропасть лежит между понятиями - успех и удача.

В НОВОМ ДОМЕ
Осенью 1877 года Островский покинул старый дом у Николы-Воробина и перебрался на новую московскую квартиру. Переезд этот дался ему нелегко. Он прирос к старому месту и с трудом оторвался от дома, который помнил с юности и в котором прожил тридцать долгих лет.
Вообще-то давно следовало бы на это решиться. Дом у Серебрянических бань год от году ветшал, становился тесен для большой семьи. Зимою, как ни топи, было в нем сыро, холодно. Островский вечно зяб, сидя за столом в валенках и беличьей шубейке, легко простужался. Здесь не было и по-настоящему покойного угла для работы, а времена, когда безразлично было, где пристроиться писать - на подоконнике, на краешке стола, - видно, ушли безвозвратно. Любой шум в доме отвлекал его, тревожил. К тому же ездить от Яузы в центр города, где жили все его московские знакомые, стало, вроде, далековато. Словом, как ни поверни, надо было решаться на переезд.
Островский любил рассказывать историю своего новоселья. По его словам, тут подтвердилось правило: желать - значит получить. Долго не решаясь начать поиски новой квартиры, он сказал как-то в шутку:
- Нет, я привык... где я найду такие удобства? Никуда я не перееду, разве мне предложат жить в кабинете князя Сергея Михайловича Голицына.
Голицын был московским попечителем в гимназические годы Островского, и его роскошный дом с гербами на воротах стоял в двух шагах от той "треклятой гимназии", в которой учился драматург.
Предположение, что Островский будет там жить, казалось невероятным: все смеялись. Но прошло время, Голицын умер, дом старого князя на Пречистенке {теперь - Волхонка, 14.}, против строившегося храма Христа Спасителя, был разбит на квартиры и стал сдаваться жильцам. Надо же так случиться, что Островскому предложили одну из этих квартир, и вскоре Марья Васильевна уже осматривала апартаменты с кабинетом князя и договаривалась со смотрителем о найме.
Теперь Островскому страстно хотелось, чтобы переезд состоялся. Его привлекало удобное, просторное помещение, он говорил, что мечтал бы иметь в доме зимой постоянные 14 градусов (как же он мерз в своем разваливающемся Воробине!), и спешил через знакомых внушить смотрителю дома - немцу, что новый квартирант человек уступчивый и с нравственной стороны не опасный: "Можно сообщить ему, - писал Островский, - некоторые из моих достоинств (не крупных), что я не пьяница, не буян, не заведу азартной игры или танцкласса в квартире и прочее в этом роде".
После воробьинского подворья новая квартира казалась прямо-таки генеральской. Здесь нашлись и удобные комнаты для детей с гувернанткой и покои для Марьи Васильевны, где она могла, наконец, устроиться вполне по своему вкусу - сменила старомодную тяжелую мебель, озаботилась красивыми шторами. Но главное - просторный, светлый кабинет для Александра Николаевича, выходивший двумя высокими окнами в тихий палисадник. Потолки кабинета были расписаны римскими сценами, светло-серые стены успокаивали глаз. Здесь стояли удобные диваны, круглый стол с газетами, ореховые книжные шкафы. Висели на стене в резных рамочках портреты артистов и писателей.
Сам Островский сидел за большим на толстых тумбах с выдвижными ящиками столом, в теплой тужурке и мягких спальных сапогах, кутал ноги в расстеленный на полу мех. На столе грудой лежали рукописи, письма, пьесы начинающих. Работать здесь было удобно.
Наконец-то привольно расположилась и его обширная библиотека. Отсвечивала позолота на старой коже, книжных корешков - драматические сочинения Плавта и Теренция, Корнеля и Расина Мольера и Шекспира, многотомное издание "Русского Феатра", новейшие сочинения итальянских, французских, русских авторов, ученые труды по истории и теории драмы. Все это долгие годы он тщательно подбирал и выписывал. На полях книг остались многочисленные его пометки. Со стен смотрели лица друзей, с которыми столько было прожито: фотографические портреты Корнилия Полтавцева, Прова Садовского, Писемского, Горбунов в костюме полового с салфеткой через руку и заискивающей физиономией...
Островскому казалось, что в новом доме и жизнь его ждет по-новому удобная, счастливая: нас вечно тешит эта иллюзия, сопутная перемене мест. Но все осталось, как было. Те же недомогания и утомление непрестанной работы. То же беспокойство за семью, детей, вечная нехватка денег, новые долги.
Марья Васильевна устраивала журфиксы, приглашала гостей. По субботам, когда не бывало спектаклей на императорской сцене, у них под вечер нередко собирались актеры. Марья Васильевна хлопотала с ужином. В хорошем настроении, разойдясь, садилась за фортепьяно и пела задорно и звонко: "Запрягу я тройку борзых, серо-пегих лошадей..." В ней просыпалась временами та Маша Бахметьева, какую Островский увидел когда-то цыганкой в живых картинах.
Если Александр Николаевич занимался в это время у себя в кабинете или читал что-нибудь из новых сочинений собравшимся друзьям, он поднимался, подходил к двери в столовую и укоризненным, но добрым голосом говорил: "Машенька, нельзя ли потише..." Пение умолкало, вспоминает один из гостей, но немного спустя возобновлялось, хотя и не громко.
Надолго выбивали Островского из работы волнения, связанные с детьми: их болезни, капризы, шалости, гимназические неудачи. Под старость он оказался нежным, чадолюбивым отцом. "Вот: весь и все для них", - говорил он гостям, указывая рукой на своих меньших. Или еще: "Мои лучшие произведения". Любил рассказывать, как добры его дети. Александр вернулся из гимназии без шапки, без варежек - говорит, отдал их какому-то бедному мальчишке. (На самом деле, наверное, просто потерял; был он растрепа, лентяй, шалун, их первенец, избалованный Марьей Васильевной.) Второй сын - Миша, необыкновенно добрый и послушный, пугал отца своей кротостью, точно не от мира сего. Старшая дочь Маша - болтушка, "звено", как говорила нянька, но умница. А самый маленький - Коля вообще чудо-дитя; его любимый домашний номер, когда ему только исполнилось семь лет, состоял в том, что он, вбегая в комнату, объявлял гостям, что пишет пьесы, но вот, как ему быть, не знает - не пропускает их цензура... Дети играли в то, чем жили старшие.
Болезни детей выбивали Островского из колеи. Когда заболевали Маша, Сережа или Люба, он сидел у их постелей, дрожал при мысли об осложнениях и, как сам говорил, "был на волос от помешательства". Вот Николка захворал в деревне, пока Марья Васильевна отдыхала в Крыму: "Можешь представить, как это на меня подействовало! Ребенок умирает без отца и матери! Я бросился туда, я не спал пять ночей и сам был между жизнью и смертью. Он, слава богу, оправился, и я его благополучно перевез в Москву. Но чего мне это стоило!". А спустя два месяца заболела Люба: "Является доктор и говорит: дифтерит. Это слово произвело во мне такой испуг, что я два дня дрожал и у меня тряслась голова. Да, кроме того, я две ночи напролет просидел подле больного ребенка; болезнь, слава богу, оказалась очень незначительной и прошла скоро; но я от нервного напряжения слег и едва оправляюсь. Вот тут и работай!" А работать приходилось с каждым годом едва ль не больше, чем прежде. Давно уже не мог он себе позволить жить и писать с вольготностью - когда и сколько захочется. Жаль было каждого пропавшего даром дня.
Вспомнить странно: когда-то он сидел над "Банкротом" четыре года, отделывая до ювелирной тонкости каждую сцену, обтачивая каждую реплику. Конечно, с тех пор прибыло опытности, но ведь и силы шли на убыль. Он впрягся в этот воз, и теперь воз сам подталкивал его сзади, не давая передышки: к сезону во что бы то ни стало нужна была новая пьеса.
Актеры торопили с комедией, обещанной к бенефису. Александр Николаевич не умел отказаться и заверял, что доставит пьесу к сроку, "если не случится потопа, труса, огня, меча или чего-нибудь тому подобного". И не было случая, чтобы не выполнил обещанного.
Когда кончалась выпадавшая на первые месяцы щелыковского лета благодатная пора обдумывания, начиналось самое трудное: "пригнать свою мысль в рамки действий и явлений". Островский называл это "каторжной работой". Художник по природе, он знал, что родившаяся мгновенным озарением мысль, новый живой характер важнее ловкой постройки, на которой набили руку вошедшие в моду французские драматурги ("С французской точки зрения постройка "Грозы" безобразна..." - писал он Тургеневу.) Их русские ученики вроде Виктора Крылова писали на зависть легко и всегда стояли по осени с готовой новинкой в руках перед директорским кабинетом Александринки.
Для Островского работа писания была непостижимо трудной. Образы, носившиеся перед ним в такой стихийной яркости, должны быть закованы в тесную раму четырех или пяти действий с соблюдением всех условий и ограничений сцены - вот истинно мучительный труд!
"Писать хочется, писать необходимо надобно, - а не пишется, - исповедовался он Некрасову; - начинал до пяти пьес - и бросал, которую - в начале, которую - в половине. Дума-то перерастает дарованьишко и не дает ему ходу; а не писать - нельзя: хоть плачь, да пиши. Вот отчего седеет голова-то!"
Работа неусыпная, бесконечная, не подымая головы, превратилась у него в своего рода философию, скрижаль нравственного стоицизма. "Честнее труда ничего на свете нет", - скажет он в "Трудовом хлебе", вещи наивной, не во всем удачной, но трогательно прямой по выраженной в ней мысли.
Порою он точно загонял себя работой. Знал, что работает надрывно, на износ, задыхался, хватался за сердце, жаловался на мучительные сердцебиения и одышку, но не поднимался с рабочего кресла.
Так было и в Щелыкове - летом и осенью, так было и в Москве зимой. Его щелыковская осень была чем-то совсем иным, чем пушкинская болдинская. Не вольное вдохновение загнанного в глушь случаем и отрезанного карантином поэта, не взметнувшийся гейзер гения, а ежегодное добровольное затворничество, труд до изнеможения к поставленному сроку.
Чем старше он становился, тем меньше разрешал себе отдых, даже в летнюю благодатную пору, тем реже навещали Щелыково гости и тем чаще уединялся он от них в беседке парка или в дальнем кабинете. "Я знаю, что я бы поправился, если бы имел возможность отдохнуть от работы и от всякой думы месяца два или три, - писал он в 1879 году; - но об этом мне и мечтать нельзя. Я, как вечный жид, осужден постоянно идти, идти без отдыха". Если бы ему еще простор в осуществлении своих замыслов!
Оставаясь наедине с собой в тиши голицынского кабинета или в щелыковском опустевшем по осени доме, он, начиная новую пьесу, всякий раз вынужден был повторять себе, что не имеет права написать ее так, чтобы она была "взята под сумление", да еще, не дай бог, оказалась непоставленной, - тогда не будет ни покоя автору, ни денег для большой семьи. Под конец жизни он считал себя виртуозом по части минования цензурных рифов и даже сам помогал молодым писателям выправить их пьесы так, чтобы никто не придрался. Но как разрушительно для художника такое умение! А между тем возникало беспокойство, знакомое каждому писателю: пропустить время, не успеть. Жизнь явственно клонилась к закату. Боли и хвори напоминали ему о ее бренности, и обидно было растрачивать свой признанный большой дар на проходные, лишенные внутренней обязательности вещи.
"Забота писательская: есть много начатого, есть хорошие сюжеты, - сокрушался он в одном из писем, - но они неудобны, нужно выбирать что-нибудь помельче. Я уж доживаю свой век; когда же я успею высказаться? Так и сойти в могилу, не сделав всего, что бы я мог сделать?"
Притязания художника на высокое понимание творчества рвали путы мелких соображений и опасений, разрушали инерцию ремесла. В этой борьбе с самим собой он чаще выходил победителем, но иногда терпел поражение.
Марья Васильевна все жаловалась, что не хватает средств жить как следует, не с чем послать кухарку в Охотный ряд. А надо было еще содержать дом, платить за детей гувернанткам и в гимназию, поддерживать усадьбу. Одна пьеса в сезон уже не кормила, и, если были силы, Островский писал зимой вторую. Он и обычно-то ложился в два часа ночи, а в семь уже был на ногах. Но в пору срочной, запойной работы не вставал из-за стола по восемнадцать часов в сутки.
Вот как дописывалась пьеса "Богатые невесты" в ноябре 1875 года - в железнодорожном вагоне, по пути в Петербург, куда Островский вез для постановки закопченную чуть прежде комедию "Волки и овцы": "Закусив немного в Клину, я перешел из средней залы в особое отделение, артельщик принес мне стол и свечи, - я сел писать и к половине двенадцатого кончил 3-й акт. Всю пятницу я сидел дома, переписал 3-й акт, который в вагоне был написан на маленьких бумажках, и начал 4-й акт... Сегодня кончу пьесу и примусь за переписку, три дня просижу дома безвыходно и не вставая с места".
Если оригинальная пьеса могла писаться так, под стук вагонных колес, на подрагивающем столе, понятно, что работу над переводами и переделками Островский расценивал как разрядку и отдых. Он говорил, что для него это "как чулки вязать". А между тем его переводные труды вовсе не были пустячными. Уже под старость он выучил испанский язык и перевел интермедии Сервантеса. Задумывал перевести в прозе и некоторые сцены из "Дон-Кихота". Предпринял с французского перевод индусской драмы "Дэвадасси" ("Баядерка") Паришурамы. Переводил "Мандрагору" Макиавелли и "Антония и Клеопатру" Шекспира. А кроме того, переделал на русские нравы несколько легких французских комедий - "Пока", "Добрый барин", не придавая им, впрочем, большого значения. Переделки он называл "гермафродитами драматического искусства", в журналах не печатал и держал в портфеле на случай, как он говорил, нужды в деньгах, чтобы "сбыть их в дирекцию по 50-ти рублей за штуку...".
Те, кто навещал его в последние годы в Москве, поражались его утомленному, нездоровому виду. Устало разминаясь и потирая затекшие руки, подымался он из-за рабочего стола и, склонив голову, чуть набычившись, смотрел на собеседника глубоко впавшими серо-голубыми глазами. Реже озаряла его лицо обычная приветливая, открытая улыбка, в ответ на которую невозможно было не улыбнуться тоже.
Он изрядно облысел и шутил невесело: "Вот что делают годы: из Аполлона я превратился теперь в Посейдона". Работая, беспрестанно курил, свертывая толстейшие самокрутки из табака грубой резки фабрики Бостанжогло, а потом задыхался и откашливался подолгу.
В поздние годы он казался отяжелевшим, медведеподобным, но та же, что всегда, затаенная страстность, простодушная вера, легкая увлекаемость продолжали жить в нем. Он только стал более осторожен, замкнут и при малейшем небрежном прикосновении наглухо захлопывал створки, охраняющие все личное, то, что живо касалось его и трогало. В случае недоумения или недовольства лишь передергивал плечами и на особый манер, поводя головой, произносил свое обычное: "Н-невозможно!".
Он легко отчаивался, впадал в дурное настроение, мнил, что все кончено. Но при малейшей удаче так же легко возвращалось к нему доброе расположение духа, и он твердил, что ему всегда везет. Мог мгновенно уверовать в жизнь, вновь возжелать всех ее простых радостей и, как в "Трудовом хлебе", воскликнуть: "Сама жизнь - есть радость, всякая жизнь - и бедная, и горькая - все радость. Озяб да согрелся - вот и радость! Голоден да накормили, вот и радость".
Казалось бы, мерка такого счастья слишком низка, обыденна для художника. Но как раз это глубоко сидевшее, нутряное, почти физиологическое ощущение радости жизни, пробивавшееся наперекор всякому пригнетению обстоятельствами и рассудком, сообщало здоровье искусству Островского, возрождало его силы за рабочим столом.
Человек огромной впечатлительности, он даже внешне мог меняться по нескольку раз на дню. То его видели стариком - унылым, расслабленным, с бессильно упавшей на грудь тяжелой головою. То он здоровел, приободривался на глазах и мог встретить приятного ему гостя доброй и веселой улыбкой на мгновенно молодеющем лице.
Французский литератор, сосватанный ему Тургеневым переводчик "Грозы" Дюран-Гревий, навестил Островского весной 1877 года, то есть как раз в те недели, когда он, судя по письмам, чувствовал себя из рук вон скверно. "Я расхварываюсь жестоко: опять общий катар, бессонница и вследствие этого расстройство нервов - я кой-как перемогаюсь, но, кажется, слягу"; "Чуть жив, а геройства своего не теряю"; "...я плох и едва брожу"... А вот каким он предстал перед французскими гостями.

"Нам и нашим товарищам по путешествию, - пишет Дюран-Гревий, - повезло услышать прочитанный самим автором пролог к его "маленькой любимице" "Снегурочке"... Никогда нам не приходилось быть свидетелями такого полного и богатого звучанием чтения. Казалось, мы слышим прекрасный отрывок итальянской поэзии, исполненной Росси или Сальвини. Этому впечатлению способствовал превосходный тенор и дикция автора, как и очарование его облика в целом.
Он был очень хорош! Когда мы встретились с ним в его своеобразном московском доме в 1877 году, незадолго до объявления русскими войны Турции,- ему было 54 года, а казалось, нет и 50-ти. Большой, еще стройный и ловко одетый в чем-то вроде охотничьего костюма, с короткими белокуро-золотистыми волосами и бородой, круглоголовый, с высоким лбом, серыми глазами под красивыми дугами бровей, с носом, немного расширенным в основании, с довольно полными, но тонко очерченными губами, он имел обычно доброжелательный вид, оттененный тонкой и доброй полуулыбкой. Разговаривая, он слушал вас, наблюдая внимательно, с симпатизирующим любопытством".
Прекрасный, но льстивый портрет! Конечно же, Островский оживился, разошелся, читая "Снегурочку". Но то, что показалось восторженному французскому гостю охотничьим костюмом, была тужурка на меху, в которой Островский спасался от простуды. Седины в бороде гость тоже не приметил. И приятно, конечно, что любезному французу помнилось, будто ему нет и пятидесяти. При гостях, да еще читая свои сочинения, он, и в самом деле, стряхивал раннюю старость, болезни, мнительность - и выглядел крепким, могучим. Да таким он еще и бывал временами, в удачные часы за работой и с близкими людьми.
В голицынском доме чаще всего навещали Островского друзья-актеры - Николай Игнатьевич Музиль, Миша Садовский. Вечерами садились иной раз играть в винт. После игры, за ужином, велись оживленные театральные разговоры, поругивали новых конторских чиновников. Садовский, к удовольствию хозяина, читал юмористическую "Песнь Малого театра":
Нам Кистером велено
Господина Кавелина
Век почитать.
Приказано на слово
Какого-то Маслова
Всем целовать.
От Перми до Бердичева
Славить Бегичева...
(Эти стихи среди других были собраны Островским в особую папку под заглавием: "Театр. Заметки, воспоминания и предложения; проекты новых статей и приведенные в порядок наброски мнений, рассеянные в письмах и памятных книжках прежних годов: стихи и анекдоты, относящиеся до театра".
Островский, видимо, хотел их использовать в задуманных им биографических "Записках" - прообразе книги "Моя жизнь в искусстве")
Все эти имена - от нового директора театров барона Кистера до управляющего московскими театрами В. П. Бегичева - были им ненавистны и просились в эпиграмму: Островского и его друзей по театру эти чиновники признавали еще меньше, чем прежние театральные начальники.
Если взять со стороны внешней, слава имени Островского росла и множилась. Об этом можно было судить не только по речам, говорившимся в юбилеи, но, пожалуй, более по посетителям, стучавшимся в двери его нового дома. Среди них было немало и случайных людей: просителей, промотавшихся купцов, бедствующих актеров, прослышавших о его доброте и надеявшихся на участие. Приходил студент - и Островский давал ему денег на прохудившиеся сапоги. Являлись актеры из провинции и просили заступиться за них перед прощелыгой-антрепренером. Залетали в роскошную голицынскую квартиру и совсем пропащие "метеоры" из купеческого звания.
"При всей лютости их супруги, Марьи Васильевны, - рассказывал один из них, разорившийся купец Федюкин, - Александр Николаевич всегда, бывало, и саечкой с балыком или икоркой подкормит, а как супруга, наругавшись, кабинет покинут, так втихомолку зелененькую или синенькую бумажку в карман опустить сумеют. Начнешь, бывало, благодарить его за великое неоставление, так он, голубчик, только к губам пальчик прижимает. Молчи, мол, не ровен час, она услышит". Известно было, что Марья Васильевна таких проказ не одобряла.
Но чаще всего навещали теперь Островского начинающие драматурги. О нем гуляла молва, что он не тяготится читать чужие рукописи - и вот несли ему их и несли. Островский читал быстро и просил дня через два-три являться за ответом - "наш вы или не наш".
- Наш вы, наш, да где же это вы раньше были? - такими словами приветствовал он начинающего драматурга И.А. Купчинского, служившего прежде кондуктором на железной дороге. Ласково улыбался, приглашал в кабинет и вел долгие, участливые разговоры с новым подопечным.
Случалось, правда, и Островскому жаловаться на своих посетителей - приносили иной раз такое, что читать невозможно: "И дьяволы, и гром, и бенгальские огни, только говорящей собаки нет", а в конце рукописи - вопрос автора, женить героя или заставить повеситься? В таких случаях Островский напускал на себя комически-важный вид и говорил новичку:
- Пьеса ничего себе, только длинна, ее сократить надо.
- Где же? Вы заметили?
- Нет, вы отбросьте первую половину.
- А потом?
- А потом вторую - и хорошо будет.
Впрочем, такому разговору свидетелей не было, и, скорее всего, Островский сочинил его для самоутешения и удовольствия слушателей.
С пишущими даже не очень грамотно, он обходился незаслуженно деликатно, исключая разве что случаи выдающейся наглости. Однажды некто И.Кутузов, наверное из переписчиков Хитрова рынка, предложил драматургу такую форму сотрудничества: "Не сочтете ли вы за хорошее и полезное давать мне для переписки свои драмы - я к красотам их прибавлю свои красоты, и произведения Ваши получат большую красоту и совершенство".
Тут, как говорится, только руками развести. Подобные письма Островский любил прочесть вслух в кругу семьи за вечерним чаем как образчики просительского хитроумия и красноречия.
Если пьеса начинающего нравилась Островскому, он, засучив рукава, ее правил, давал советы, испещрял пометками страницы рукописи. Казалось, после истории с Горевым ему бы навсегда заречься вступать с кем-либо в добровольное соавторство. Но вот однажды писатель и философ Конст. Леонтьев переслал ему пьесу "Кто ожидал?" никому не ведомого автора, и, неожиданно для себя, Островский загорелся, увлекся замыслом, невнятно прочерченным в рукописи.
Трудно передать, что испытывает опытный писатель, когда в груде слабых, беспомощных сочинений обнаруживается такая находка. У Островского мгновенно родилось нежное, отеческое чувство к незнакомому автору, желание помочь ему, вытащить из безвестности. Кто знает, быть может, он совсем такой, каким сам был когда-то, обивавший чужие пороги с рукописью автор "Банкрота"... Островский не успокоился, пока не узнал все, что мог, о молодом драматурге.
Им оказался Николай Яковлевич Соловьев - послушник Николо-Угрешского монастыря, что в пятнадцати верстах от Москвы. Ему пришлось много мыкаться и бедствовать, прежде чем он нашел настоящую дорогу.

Соловьев начал свои драматические опыты, еще будучи вольнослушателем университета, но не смог пробиться на сцену. Сильно нуждаясь, с больной матерью на руках, он поехал преподавать в провинцию. Учитель арифметики тайно благоговел перед театром. Жизненные невзгоды толкнули его в монастырь, где он провел послушником два года и исподволь написал пьесы "Разладица" и "Кто ожидал?". Случилось так, что в том же монастыре проходил в то время обряд послушания Константин Леонтьев, писатель, замеченный в молодости Тургеневым, но позднее перешедший с беллетристики на очерковую и философскую прозу довольно мрачного "византийского" оттенка. Познакомившись с опытами своего товарища по монастырю, К.Леонтьев решил, что он может подарить русскую литературу новым крупным талантом. Он посоветовал Соловьеву пойти на выучку к Островскому: не подчиняться его демократическому направлению, но использовать опыт мастера "Я очень рад за Вас сближению Вашему с Островским, - писал Леонтьев Соловьеву 19 апреля 1876 года, - рад тому, что он поможет Вам усовершенствовать форму Ваших произведений, улучшить сценические приемы Ваши; отучит употреблять такие семинарские выражения, как дуэтироватъ, планировать (их никогда не употребляют светские люди) и т. п. Но, сознаюсь откровенно и между нами, я несколько боюсь за направление идей Ваших. Все мы люди, все мы человеки! В Островском в самом есть нечто, что слишком, к несчастью, сродно Вашему прежнему направлению, Вашей демократической гордости, Вашей теории: права на жизнь и т. п. Он все-таки, несмотря на весь поэтический дар свой, несколько нигилист. Он ненавидит монашество, не понимает вовсе прелести и поэзии Православия, не любит, видимо, с другой стороны, изящного барства; одним словом, сам он и лично, и как художник очень цветен, но по строю мысли, по философским, так сказать, и политическим сочувствиям, он принадлежит, видимо, к тому выдохшемуся либеральному направлению, на которое Вы сами нападали у меня в номере так справедливо и зло... Вы и идеально, и практически больше выиграете, если подчинитесь влиянию Островского со стороны формы, а меня будете помнить хоть немного со стороны духа и направления".
Соловьев появился в московском доме Островского в начале 1876 года. Настороженный, издерганный, он никак не мог найти верного тона и от заискивания легко переходил к агрессивной самоуверенности. Но все это стало быстро спадать от простой сердечности, радушия Островского, его неподдельно теплых слов и искреннего участия. Он советовал Соловьеву оставить монастырь и целиком посвятить себя литературе, обещал пристроить его в Москве. Соловьев и в самом деле бросил вскоре подрясник и устроился по протекции Островского в московскую межевую канцелярию. Чтобы помочь ему на первых шагах, Александр Николаевич выхлопотал ему ссуду в Обществе драматических писателей и пригласил на лето в свое Щелыково.
Здесь и началась их совместная работа над яркой по замыслу, но крайне непричесанной, неотделанной пьесой "Кто ожидал?", превратившейся в одну из блестящих комедий русского бытового репертуара, - "Женитьбу Белугина". Помог он ему и с пьесой "Счастливый день".
Соловьев был несомненно одаренный человек, со свежими идеями и богатым жизненным опытом. Но Островский находил, что его дарование "некультивировано" и надо многое счищать в его писаниях, чтобы добраться до "зерна". Соловьев не владел диалогом, не умел "расположить пьесы". К тому же плохо схватывал изустные советы, и Островский поневоле все чаще брался за перо сам. "Сценариум", первоначально предложенный молодым автором, перекраивался на ходу и получал живые звуки и краски иждивением старшего мастера. К упорному, "ломовому труду" Соловьев, по своей нервности, оказался неспособен.
Они работали вместе четыре года, и за это время, кроме поименованных, написали пьесы "Дикарка" и "Светит, да не греет". Островский трудился над этими комедиями в полную силу, как над оригинальными своими созданиями. Он был крайне терпим в совместной работе, а его творческий деспотизм заключался разве в том, что он буквально забрасывал молодого соавтора все новыми соображениями о характерах лиц, поворотах действия, возможной развязке.
В Ахметьеве из "Дикарки" Соловьев изобразил своего первого литературного покровителя Константина Леонтьева. Его роман с молоденькой свояченицей, стоивший Леонтьеву семьи, положения в обществе, был представлен в начальном варианте пьесы с заметной долей сочувствия. Верный своей антипатии к "изящному барству", Островский заменил лишь одну букву в фамилии героя, назвав его Ашметьев ("ошметки"?). Но в едва заметной перемене имени точно выразилась трансформация образа. Островскому были неприятны "эстетические дармоеды вроде Ашметьева, которые эгоистически пользуются неразумием шальных девок вроде Дикарки, накоротке поэтизируют их и потом бросают и губят".
"Мной положены в эту работу, - говорил Островский о "Дикарке", - все мои знания, вся моя опытность и самый добросовестный труд".
И Соловьев, со всей своей раздраженной амбицией, поначалу, кажется, понимал это. "Вы, Александр Николаевич, - обращался он к Островскому, - решительно воздвигаете меня среди моей невеселой жизни, и каждое Ваше слово вливает в меня новую энергию; если я буду иметь какой-нибудь успех, достигну чего-нибудь, - то всегда с истинной признательностью назову вас человеком, выхватившим меня, кому я всем обязан".
Островский в самом деле возился с Соловьевым, как нянька: устраивал его материальные дела, успокаивал его нервозность, пристраивал пьесы в журнал, служил добровольным импрессарио, помогал в выборе актеров, уговаривал не верить облыжным отзывам газет. После первой их успешной премьеры Соловьев в избытке чувств бросился на шею к Островскому. Но, едва оперившись, молодой драматург решил, что может летать самостоятельно. Ему уже казалось, что все, чего он достиг, было бы у него и без Островского, и, может быть, даже в лучшем виде. А доброхоты, которых всегда в таких случаях в достатке, в том числе и первый его попечитель Конст. Леонтьев, жужжат в уши, что он - талант, что Островский "исписался" и едет на его замыслах и идеях и что ему, Соловьеву, лучше писать одному.
Была минута, когда он поверил этому. Островский дал ему возможность "понюхать чаду успеха... и немножко угореть". Увы, пьесы, написанные Соловьевым без участия старшего мастера, были малоудачны и не удержались в репертуаре.
В тайне души Островский надеялся, что найдет в Соловьеве наследника. Он помнил, как сам некогда гордился поощрением Гоголя. Но когда Соловьев отвернулся от него, Островский ничем не выдал своей досады на их распавшееся сотрудничество. Он даже выразил удовольствие, что молодой автор настолько окреп, что может работать самостоятельно.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 05.11.2016, 21:53 | Сообщение # 40 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 291
Статус: Offline
| До конца дней он не отказывал Соловьеву в помощи и совете. Но еще одна царапина осталась у него на душе.
Впрочем, расхолодить его к начинающим и это не смогло. "До сих пор у меня на столе меньше пяти чужих пьес никогда не бывает, - писал он в 1884 году. - Если в сотне глупых и пустых актов я найду хоть одно явление, талантливо написанное, - я уж и рад, и утешен; я сейчас разыскиваю автора, приближаю его к себе и начинаю учить"
Безнадежным он почитал дело лишь тогда, когда не видел "искры божией" - одни перепевы, вымученность. В прочих случаях не жалел для молодых авторов ни времени, ни труда. Явился на Пречистенку офицер Невежин в военном мундире, с рукой на черной перевязи, приехавший с русско-турецкой войны, и, едва разглядев в нем блестки таланта, Островский кинулся его опекать, помог закончить и довести до спектакля пьесы "Блажь" и "Старое по-новому". Возник на горизонте молодой Г. Лукин из Самары с пьесой "Чужая душа - дремучий лес", и Островский безвозмездно взялся за ее переделку, носился с ней всюду, проча в репертуар Малого театра, соблазнял ею актеров.
В последний год жизни он пригрел "свежий и симпатический" талант А.С. Шабельской: "Сделайте одолжение: присылайте мне все, что у Вас написано..." Вступил в оживленную переписку с нижегородской поэтессой А.Мысовской: собирался написать с ней совместно феерию "Синяя борода" для утренников и обработать сказку "Аленький цветочек"; уже и краткие сценарии ей послал... Говорили, что когда Александра Николаевича не стало, в его бумагах обнаружили до тридцати пьес начинающих писателей, ожидавших своей очереди, да так и не прочитанных.
В голицынском доме навещали Островского изредка и старшие литераторы - остатки былых молодых дружб.
"Иных уж нет, а те далече...". Некрасов был уже в могиле, Тургенев годами жил за границей. Изредка навещал его по старой памяти Писемский, хотя оба они чувствовали при этих встречах, что мало осталось у них общего.
Писемскому не нравился "либерализм" Островского, а Островский называл его "диким". Когда-то милая самобытность "русака", уездного барина в засаленном архалуке, растрепанного и яркого в привычках и речи, слиняла за последние годы; остались упрямство и довольство собой, какая-то неумная косность... Но все это скоро закрыла могила в Ново-Девичьем монастыре. В январе 1881 года ссутулившийся и постаревший Островский, поддерживаемый под руки друзьями, стоял без шапки на морозном ветру, позабыв о простуде. Со слезами на глазах поминал он добром старого своего приятеля.
А как-то в дом на Пречистенке нежданным гостем явился Лев Толстой. Их давно развела жизнь. Островский часто вспоминал первые дружеские встречи с Толстым в "Современнике". Вспоминал и то, как когда-то в спальне Берсов в Кремле слушали они с А.Жемчужниковым первые главы "Войны и мира". Толстой читал, волнуясь сам и приводил в восхищение слушателей. Какая-то тень легла, правда, на их отношения, когда Толстой сочинил комедию "Зараженное семейство" и затащил Островского к себе показать ему ее. Было это в 1864 году. Пьеса оказалась неудачна, да еще антинигилистическая, ядовитая, с выходками против студентов-вольнодумцев и женской эмансипации. Островский еле высидел до конца чтения и написал сокрушенно Некрасову: "это такое безобразие, что у меня положительно завяли уши..." Толстому он сказал тогда мягче: мало действия, надо бы еще поработать. Но дебютант-драматург горячился и все говорил, что хочет видеть пьесу на сцене поскорее, еще в нынешнем сезоне: вещица злободневная, важно не опоздать с ней. "Что же, ты боишься, что поумнеют?" - лукаво ответил ему Островский. Толстой обиделся, но пьесу не поставил, не напечатал, а ответ этот запомнил на всю жизнь и в старости не раз вспоминал его.
И вот теперь, гуляючи, Толстой пришел как-то из Хамовников в дом Голицына. Он застал Островского сидящим за столом, седые волосы ежиком, в клеенчатой куртке: он писал тогда одну из своих театральных "записок". Толстой принес ему свои сочинения по философии, кажется, "Исповедь", и разбор Четырех евангелий.
Островский слышал уже, что Толстой отказывается от художественного творчества, исповедует новые религиозные взгляды, и попытался ему возразить. "Лев, - сказал он будто бы ему, - ты романами и повестями велик, оставайся романистом, если утомился - отдохни, на что ты взялся умы мутить, это к хорошему не поведет".
Может быть, и не совсем так он выразился, как вспоминает мемуарист, но смысл передан верно. Недаром спустя еще двадцать лет Толстой сказал как-то об Островском своему секретарю Н.Гусеву: "Он был самобытный, оригинальный человек, ни у кого не заискивал, даже и в литературном мире". Собственные впечатления могли Толстому это подтвердить.
А с Тургеневым и Достоевским Островский в последний раз встретился в начале июня 1880 года на открытии памятника Пушкину.

Москва ликовала, празднуя первый в своей истории литературный праздник. Собраны были всенародной подпиской деньги, отлит по гениальному проекту самородка Опекушина бронзовый Пушкин со склоненной головой, и уже определено было ему место в начале Тверского бульвара, вдоль которого, приезжая в Москву, любил гулять поэт. Четыре дня продолжались торжества: шествия, возложение венков, обеды, заседания, речи. Кумиры русской литературы собрались в старой столице; лишь Толстой по новым своим убеждениям не поощрил этот праздник своим присутствием.
В зале Благородного собрания с беломраморными колоннами овацией была встречена речь Тургенева, исполненная благородства и изящества. Он говорил о Пушкине как о поэте-художнике, о возврате молодого поколения к его благоуханной поэзии, о "художестве" как воплощении идеалов народной жизни... Настоящей сенсацией явилась вдохновенная, пылкая речь Достоевского. Он говорил о Пушкине как о явлении пророческом, о русской способности к "всемирной отзывчивости", о своей великой надежде на будущее русского человека. Когда Достоевский сходил с подмостков, публика бросилась к нему, целовали ему руки, один молодой человек упал от волнения в обморок...
Но и среди этих блистательных триумфов не затерялось скромное слово Островского, произнесенное им на обеде в одном из залов Благородного собрания 7 июня 1880 года. В открытом заседании с подмостков выступать он не решился. Боялся, что будет говорить хрипло, тихо - его все чаще душила астма.
Островский поднялся из-за стола, чуть сутулясь, с мелко исписанными листками в руке, и начал читать разговорным, даже чуть фамильярным тоном, певуче растягивая отдельные слова, увлекаясь отточенной формой, приданной им короткому, но вылившемуся из души слову. Он предупреждал, что будет говорить о Пушкине "не как человек ученый, а как человек убежденный".
Наверное тем еще и велик Пушкин, что в нем, как в белом цвете, собраны все цвета солнечного спектра. Каждый находит в нем свой исток, ставит перед его поэзией свой жертвенник, и любой писатель, говоря о Пушкине, невольно говорит о себе.
Свои литературные вкусы и убеждения отстаивал в пушкинской речи Тургенев. Заветные мысли высказывал на Пушкинском празднике Достоевский. И Островский, конечно, не избежал этого искуса.
Он почел нужным напомнить, что великий поэт дает не только формы мыслей и чувств, но как бы еще и сами их формулы: "всякому хочется возвышенно мыслить и чувствовать вместе с ним; всякий ждет, что вот он скажет мне что-то прекрасное, новое, чего нет у меня, чего недостает мне, и это сейчас же сделается моим". Островский о Пушкине говорил, но защищал и себя, свое "новое слово".
Критика досаждала ему укорами, что он повторяется, что все это уже было, и ныне, указывая на великий пример, он отвечал ей: "Многие полагают, что поэты и художники не дают ничего нового, что все, ими созданное, было и прежде где-то, у кого-то, но оставалось под спудом, потому что не находило выражения. Это неправда. Ошибка происходит оттого, что все вообще великие научные, художественные и нравственные истины очень просты и легко усвояются. Но как они пи просты, все-таки предлагаются только творческими умами, а обыкновенными умами только усваиваются, и то не вдруг и не во всей полноте, а по мере сил каждого".
Другой заслугой Пушкина Островский назвал то, что он дал "всякой оригинальности смелость, дал смелость русскому писателю быть русским".
И это опять о Пушкине было сказано, но сказано и о себе - Александре Николаевиче Островском.
И когда, заканчивая, Островский провозгласил тост за вечное искусство, за литературную семью Пушкина - русских литераторов, справляющих весело свой праздник, раздался гром аплодисментов, приветственные возгласы, и десятки рук потянулись к нему с бокалами, чествуя в нем одного из сыновей великой пушкинской семьи.
БЕЗВРЕМЕНЬЕ И БЕЗЛЮДЬЕ
Смертельно раненный бомбой метальщика Гриневицкого Александр II медленно сполз на тротуар у решетки Екатерининского канала. Через час с четвертью он скончался во дворце.
Убийство царя было кульминацией в кровавой борьбе горстки народовольцев с правительством. "С событием 1-го марта, - извещал Островского из Петербурга Н.Соловьев, - здесь настали дни трепета и мрака невыразимого; на каждом лице читаешь глубокую тоску и вопрос: как это переживется и что будет дальше... завтра, послезавтра?.."
Итог оказался неутешительным: "Народная воля" была разгромлена. Взошедший на престол Александр III ознаменовал начало своего царствования казнью Желябова и его товарищей. М.Катков, давно предупреждавший, что игры с либералами заведут далеко, тайно злорадствовал и звал диктатуру. Надежды на обещанную конституцию развеялись как дым. А ведь всего год-полтора назад только и разговору кругом было, что о новых реформах. "Во всех сословиях населения проявляется какое-то неопределенное, всех обуявшее неудовольствие. Все на что-нибудь жалуются и как будто желают и ждут перемены", - признало Особое совещание министров в июле 1879 года.
Тогда-то и в театральных кругах стали поговаривать, что пора-де реформировать русскую сцену, разрешить частные театры. С этой идеей носился Бурдин, подбивавший приятеля подать свой проект реформ, да Островский и сам решился было писать Записку во дворец о пересмотре театрального дела. Ко времени ли будет его Записка теперь?
События 1 марта задели его даже с ближайшей, житейской стороны. Траур по убиенному императору, объявленный на полгода, закрыл двери театров. Это подорвало и без того шаткий его бюджет. Пришлось занять две тысячи рублей у доброго знакомого, А.Майкова, одалживаться у брата Михаила Николаевича. Среди общей неуверенности зыбки становились и все долговременные литературные планы.
Прав был Щедрин, недавно написавший ему: "Каракозов и Засулич - вот российские историографы, которые в особенности будут памятны русской печати, которая, по обыкновению, за все и про все отдувается". Гриневицкий стал "историографом N 1".
После первых месяцев растерянности во дворце стали опоминаться, и маховик реакции начал раскручиваться вправо - медленно, тяжело и неуклонно. "Отечественные записки" с каждым днем испытывали все большие затруднения и, казалось, уже висели на волоске.
С 1878 года, заключив по смерти Некрасова новый контракт c Краевским, Салтыков-Щедрин продолжал упорно вести журнал в прежнем направлении. С каждым годом это становилось труднее. Салтыков не обладал в той мере, как его покойный друг, искусством обходить цензурные рифы и мели. По своей грубовато-иронической манере он легко портил отношения с людьми влиятельными, и журнал получал предупреждение за предупреждением.

Где тот прежний, резко порывистый, с аккуратными бакенбардами и в пенсне, энергичный Салтыков, каким запомнил его Островский по былым временам?
Журнальные тяготы его надломили. Теперь это был дряхлый желчный старик, измученный болезнью и литературными невзгодами, встречавший посетителей в халате. Лоб его иссекли морщины, сходившиеся у переносицы, и лишь глаза смотрели по-молодому непримиримо и яростно.
Щедрину нравилась не каждая из новых пьес Островского, но он прятал свои неудовольствия, понимая, как важно журналу сохранить сотрудничество такого автора.
"Я думаю, что и без моего напоминания Вы дали бы нам новую пьесу, - обращался он к драматургу в июне 1880 года, - но во всяком случае считаю за долг выразить Вам, как глубоко я и прочие члены редакции дорожим Вашим сотрудничеством, и вместе с тем желаю сказать Вам слово признательности за сочувствие, выраженное Вами в последнем письме к моей деятельности".
Чем хуже были дела журнала, тем больше ценил Щедрин участие в нем Островского:
"Хоть наш журнал и считается ныне злонамеренным (в особенности я лично), но надеюсь, что Вы не откажете нам в продолжении Вашего сотрудничества" (22 октября 1880 г.); "...нехорошо будет для нас, ежели мы без Вашей пьесы выпустим 1-ый N" (1882 г.)
И Островский показал себя человеком чести. Он не отступился от опального журнала даже тогда, когда ясно стало, что дни его сочтены. А между тем положение драматурга было довольно деликатным, поскольку брат Михаил Николаевич, с которым он был близок и в доме которого останавливался, бывая в столице, как и все петербургское окружение брата, косо смотрел на журнал Щедрина.
Во дни молодости Островского крутился возле "москвитянинцев" некто Феоктистов, написавший потом о них недобрые, лживые воспоминания. Теперь Е.Феоктистов пошел в гору и вместе с Тертием Филипповым и Михаилом Николаевичем Островским примкнул к охранительной, крайне правой партии при дворе, вдохновляемой из Москвы Катковым. Щедрин не зря угадывал в них своих гонителей.
"Островский Феоктистову
На то рога и дал,
Чтоб ими он неистово
Писателей бодал".
Хлесткая эпиграмма Д.Минаева намекала на близкие отношения М.Н. Островского с С.Феоктистовой. Но она говорила и о том, что именно по протекции министра Островского Феоктистов был назначен начальником Главного управления по делам печати, то есть верховным цензором. Братья Островские склонялись к разным общественным полюсам.
"Десница Каткова явно простерлась надо мною и вдохновляет Феоктистова, - писал Щедрин 31 января 1883 года А.Боровиковскому. - Вы не можете себе представить, что тут происходит. Островский-министр брата своего (Александра) походя поносит".
Каков же должен был быть испуг и ожесточение в дворцовых кругах, чтобы Михаил Николаевич, искренне любивший и почитавший брата, стал "походя поносить" его! По-видимому, не смог скрыть досады на его сотрудничество в "Отечественных записках". Правду сказать, в вопросах политики и литературы братья и прежде редко сходились.

К началу 80-х годов Михаил Николаевич достиг высокого положения при дворе и стал коснеть в добропорядочном монархизме. Природа наделила его, как и всех Островских, умом трезвым и ясным, но при умеренном темпераменте и законопослушном характере. Он был зорок на многое: еще в 70-е годы писал П.Анненкову из деревни письма, где огорчался жестокостью рекрутчины, нравственным ничтожеством сельских пастырей, пороками местного управления. Но дальше обличительства в мягком домашнем кресле его возмущение не простиралось. Зато в столице он получил репутацию аккуратного и дельного чиновника: готовил реформы по контролю, содействовал принятию закона о сбережении лесов, обновил горный устав, поощрял кустарные промыслы... Но на "основы", понятно, не замахивался.
Чем больше коснел Михаил Николаевич в своем консерватизме, тем гуще шли ему чины и ордена, а чем гуще шли чины и ордена, тем больше утверждался он в своей правоте по части незыблемости престола и отечества.
Обычно считают: ограничен - значит, глуп. Михаил Николаевич был умен, но ограничен - ограничен своим положением, смолоду взятым разбегом по чиновничьей лестнице. В 1871 году - товарищ государственного контролера, в 1872 - сенатор, в 1874 - статс-секретарь, в 1878 - член Государственного совета, наконец, в 1881 - министр государственных имуществ. В 1883 году он получил высокий чин действительного тайного советника.
Старший брат, талантом которого он гордился, огорчал его своей терпимостью к "красным", сотрудничеством в подозрительно крамольном издании. Михаил Николаевич, и сам не чуждый литературных интересов, издавна знался и с Некрасовым и с Салтыковым, но не афишировал этого знакомства и умел вовремя отодвинуться, встать на официальную ногу, едва чувствовал для себя опасность.
Приезжая в Петербург, Островский часто останавливался в ставших теперь совсем роскошными апартаментах брата-министра на Большой Морской, в доме 44. "У меня помещение особое внизу, - извещал он жену, - комнаты вдвое больше и выше наших, с коврами, с мраморными каминами, совершенно дворец".
Ходили забавные россказни о том, как, засидевшись накануне с актерами в веселом застолье, Островский появлялся наутро в министерском кабинете Михаила Николаевича.
"Министр резко откидывается на спинку кресла, бросает перо и сухо обрывает брата:
- Ничего я не вижу, Саша, в этом хорошего!
Драматург поднимается и с укоризной отвечает:
- А что же, по-твоему, эти твои бумаги лучше?
И братья расстаются".
Летние месяцы Михаил Николаевич часто проводил в Щелыкове. Братья вместе гуляли, а за столом садились обыкновенно рядом. "Во время обеда, - вспоминает жена Музиля, В.Бороздина,- А.Н. и М.Н. непременно поспорят, отодвинут стулья, сядут друг против друга и, когда спор разгорится, повернут стулья спинками друг к другу и в таком положении, не глядя друг на друга, продолжают спорить, а я сижу напротив и едва удерживаюсь от смеха".
Александр Николаевич не принадлежал к доморощенным политикам, которые любят обсудить судьбы мира за чашкой чая, и обычно, едва разговор касался остросовременных вопросов, улыбаясь, говорил, что их лучше решать не с ним, а с Горчаковым или Бисмарком. Но не отказывал себе в удовольствии иной раз поспорить с братом-сановником на политические темы, как будто для того лишь, чтобы сбить с него петербургское высокомерие.
Сухощавое, тщательно бритое лицо брата выражало огорчение и досаду - Александр Николаевич не хотел его понять. Чтобы разрядить взаимное неудовольствие, Островский предлагал послеобеденную партию в вист или неторопливую прогулку. Иногда ему удавалось уговорить Михаила Николаевича пойти ловить с ним рыбу. Сенатор удил в перчатках, брезгливо насаживая червя на крючок под добродушно-насмешливым взглядом Александра Николаевича.
Они не раз уж решали про себя - не касаться больше политики, но невольно срывались в спор. Нельзя сказать, чтобы наш драматург одобрял, к примеру, терроризм или придерживался радикальных взглядов на государственное устройство. Известно было, что он осуждает "преступные мальчишеские выходки" террористов. Но вот однажды, во время тихой послеобеденной прогулки с братом в компании четы Музилей, Михаилу Николаевичу подали телеграмму из Петербурга. Он страшно побледнел и сказал изменившимся голосом: "Какой ужас! Мезенцева убили!"

(Мезенцев был ненавидимый революционерами шеф жандармов, и Степняк-Кравчинский привел в исполнение приговор "Народной волн" над ним.)

Александр Николаевич посмотрел на испуганного брата и ответил неожиданно: - Давно пора! Как раньше не убили!
Легко представить себе немую сцену в духе гоголевского "Ревизора" на дорожке щелыковского парка!
И так всегда. В домашних, семейных отношениях не было, казалось, людей ближе. Михаил Николаевич поддерживал брата, принимал участие в его петербургских хлопотах, помогал, советовал. Но едва дело касалось "общих материй", братья будто молчаливо поворачивали стулья спинками друг к другу.
В тяжелую пору гонений "Отечественным запискам" особенно важно было сохранить сотрудничество Островского. Это был знак того, что настоящие писатели, несмотря на все нападки, не отвернулись от журнала.
"Считаю приятнейшею обязанностью уведомить Вас, - писал Островскому с нарочитой витиеватостью Салтыков, - что "Отечественные записки" еще существуют, а следовательно, не невозможно, что и 1-й N 1883 года выйдет". Ссылаясь на обычай, заведенный в журнале "с древнейших времен", Салтыков просил понятно, новую пьесу. Но весь тон его письма намекал прозрачно, что журнал живет от книжки к книжке, под постоянной угрозой запрета.
Островский дал тогда Салтыкову свою комедию "Красавец-мужчина". В январе следующего, 1884 года он напечатал в "Отечественных записках" пьесу "Без вины виноватые". А всего спустя три месяца, в апреле 1884 года, правительство объявило, что журнал запрещается за вредное направление и открывшуюся связь некоторых его сотрудников с революционным движением.
Лишение журнала Щедрин пережил как личную трагедию. Несчастие делает человека недоверчивым. Ему казалось, что с закрытием "Отечественных записок" все литераторы отшатнулись от него. И Островского он заподозрил в том же.
Еще прежде, по врожденной привычке никого не щадить ради красного словца, Щедрин посмеивался над тем, каким "высокопоставленным" выглядел драматург на данном в его честь в 1882 году обеде: "Сидит скромно, говорит благосклонно и понимает, что заслужил, чтоб его чествовали. И ежели в его присутствии выражаются свободно, то не делает вида, что ему неловко, а лишь внутренне не одобряет. Словом сказать, словно во дворце родился".
Написано смешно, едко, но несправедливо. Щедрин зря растрачивал свой яд, осмеивая сдержанность Островского. Его положение "брата своего брата" было более чем деликатным. Зато поведение в отношении автора этих язвительных строк оказалось безукоризненным.
В бедственную для "Отечественных записок" пору Островский выхлопотал через брата право напечатать в журнале три ранее запрещенные сказки Щедрина: "Премудрый пескарь", "Самоотверженный заяц" и "Бедный волк". Сказки Щедрина вызывали у него восхищение. Он читал их вслух дома. Его сын Миша переделал для народного издания одну из них - "Пропала совесть".
Свою последнюю пьесу Островский был вынужден печатать в другом журнале. "Отечественных записок" уже не было. Но о ком говорил он, появившись в 1885 году на литературном вечере у М.Стасюлевича, в редакции "Вестника Европы"? О Щедрине! Он говорил не только о "несравненных приемах" его сатиры. Он называл его пророком, vates'oм римским, вспоминал библейских пророков, прорицавших будущее, сравнивал по силе поэзии со второй книгой Ездры.
"Главное в нем ум, - говорил Островский, - а что такое талант, как не ум? А что такое вдохновение, как не талант?" По-видимому, среди его слушателей были такие, что, признавая ум Щедрина, усомнились в его художественном даре, и Островский горячо возражал им.
В дни, когда голоса сочувствия к Щедрину раздавались не часто и самому автору "Сказок" казалось, что он потерял своего читателя и говорит в пустоту, слова Островского о нем были поступком.
Ползучая, "тихая" реакция постепенно заполняла своим тлетворным дыханием все поры жизни. Напуганное революционерами правительство действовало робко, с оглядкой, но в одну сторону. После того как "Отечественные записки" были задушены, нечего, казалось, ждать. Уставшее от вспышек радикализма и собственной неустойчивости общество покорялось тупой, гнетущей силе.
И в эти-то годы Островский задумал хлопотать о реформе театра! Право, нельзя было выбрать времени неудачнее. Но что делать! Он был уже не молод и понимал, что иного времени ему не дано будет. К тому же все театральное дело в России было в таком загоне, что никогда еще эта задача не казалась насущнее.
Что это, в самом деле, происходит, с искусством? Наступают вдруг такие времена, когда не только литература, прямо зависящая от общественного тонуса, но музыка, пение, исполнительское искусство, даже балет, поникают и падают. Дело, на первый взгляд необъяснимое: ведь голоса, музыкальность, талант лицедейства природа отпускает, не скупясь, всякому поколению. Но в одно десятилетие искусство цветет, в другое - вянет. Еле ожившая в 60-е годы общественность была мало-помалу оттеснена и задавлена новой бюрократией годов 70-х: ее казенной поступью, ее буржуазными вкусами. Снова, как в николаевские времена, всеми овладели апатия, равнодушие, и вдохновение царило лишь за зеленым карточным столом. Готовилась бедственная для искусства полоса.
По-видимому, культура имеет какое-то единство, и если засыхает ее ствол, не может пышно цвести одна какая-то ветвь. Искусство - свободное дыхание общества, и, перехватив горло у литературы, нельзя рассчитывать, скажем, на прогресс оперного пения: опера с роковой неизбежностью выдыхается и падает вслед за романом и драмой.
Так упало, заштамповалось и одряхлело к 80-м годам и актерское искусство, драматическая сцена. Казалось бы, актер может потрясать сердца, даже если "Отечественные записки" закрыты и Щедрину не дают писать. Нет, Островский увидит неразрывную связь литературы, репертуара и искусства актера. Драматургия падает, приспособляясь к штампам сцены, сцена падает, питаясь штампами драматургии.
Островский мечтал, чтобы театр, как журнал, был театром идейным, театром с направлением, но именно этого-то меньше всего хотели театральные чиновники. К 80-м годам произошел, заметит он разрыв между театром и интеллигенцией.
Театр императорский, возникший когда-то как забава двора и с трудом выбившийся к художественному значению, терпел жестокий кризис: на всем появился налет расхожей дешевизны. В Петербурге заметно мельчал репертуар, падала культура актеров. А.И. Шуберт вспоминала, что когда, после долгого перерыва она вернулась в 1882 году на Александрийскую сцену, ее поразил сам уровень театра: "Полное невежество, непонимание русской жизни и честного отношения к делу. Ни одна душа ничего не читает, ничем не интересуется и только носится со своим "я". Но что до того дирекции театров?
Гедеонова-младшего в 1876 году сменил барон К.Кистер, пробывший на этом посту до осени 1881 года. Годы правления Кистера Островский называл "лихолетьем" для русского искусства. "Я теперь удивляюсь, - вспоминал он несколько лет спустя, - как мы пережили это время, как не бросили писать".
О Кистере издавна шла слава как о деловом человеке, склонном к рациональной и жесткой экономии. Он заведовал Контролем и был "душою министерства" при графе А.В. Адлерберге. Молодой Адлерберг не любил движения и чистого воздуха, сидел большей частью дома, а две трети прошений, адресованных ему, отправлял в камин, не читая. Понятно, что такой человек, как Кистер, был для него находкой. Ждали, что бывший кавалерист и служащий Ботанического сада и в театрах наведет строгий порядок.
Но с театрами "ботанику" Кистеру оказалось управиться труднее. Суворин говорил, что этот немецкий барон напоминает ему того садовника в оранжерее, который, "не умея воспитывать цветов, стал бы насаждать в ней капусту и картофель". Он знал одно - экономию для казны, и с этой похвальной целью превратил императорские театры в доходные дома с увеселениями. При Кистере было запрещено делать траты на русские пьесы.

Актер Музиль вынужден был за свой счет поставить беседку на сцене в комедии "Правда - хорошо, а счастье лучше", чтобы выполнить ремарку автора. В Петербурге в той же пьесе вместо обеденного стола поставили карточный, и он развалился прямо на сцене. "Поруганное русское искусство постепенно замирало в императорских театрах..." - подвел итог этой поре Островский.
Вопреки логике, среди общего мрака судьба преподносит иной раз некоторые сюрпризы. С новым царствованием пришел и новый министр двора: Островскому хвалили И.И. Воронцова-Дашкова как простого и доброго человека. Директором театров при нем стал Иван Александрович Всеволожский, сменивший ненавистного Кистера.

В 1881-1882 годах увольняли, как правило, либеральных министров, но колесо истории ненароком зацепляло и уносило за собой в небытие и одиозные фигуры.
При Всеволожском все же было легче, хотя театрам от него оказалось мало проку. Бывший атташе при канцелярии министерства иностранных дел в Париже, он ставил когда-то легкие спектакли при дворе, мастерски разрисовывал женские веера, шалил карикатурами. Этого было достаточно, чтобы прослыть художественной натурой и получить в заведование русские театры. К Островскому Всеволожский относился беззлобно, но чуть свысока, как парижский фат и бонвиван к российскому простецу. "Сермяга! - отзывался он о его пьесах. - Может быть, это и подходящий костюм для известного слоя населения, но на императорской сцене не должно пахнуть козлом..."
Ах, Иван Александрович, Иван Александрович! И не стыдно вам, с вашей репутацией острослова, повторять такие зады? Ведь и Верстовскому приписывались эти слова. Да и сам Ипполит Маркелыч Удушьев у Щедрина уже произнес свою историческую фразу: "Со времени его появления русская сцена пропахла овчинным полушубком". Где же оригинальная выдумка, игра ума?
И чтобы разнообразить репертуар, Всеволожский спрашивает, морща нос, у чиновника, отсидевшего накануне за своего директора в Александринке спектакль Островского: "Ну как, пахло капустой?" И чиновник отвечает ему в тон: "Несло, а не пахло..."
Директор рисовал на Островского карикатуры. Вот одна из них: Островский восседает, скрестив ноги по-восточному, на цветке лотоса, выросшем над Москвой-рекой, и указывает на свой пуп, на котором написано: "центр мира". Всеволожского раздражала борьба Островского за автономию московской сцены.
Понятно, что и Островский, держась внешне почтительно, платил ему антипатией. Однажды Суворин обронил в разговоре с драматургом, что новый директор не злой, в сущности, человек. Островский достал фотографию Всеволожского из ящика стола и, кивнув на нее, сказал: "Видите эти глаза? Это оловянные глаза. Такие глаза бывают только у злых людей". Оловянные глаза управляли русским искусством.
Чиновники московской конторы - Пчельников и Погожев, зная об отношении нового директора к драматургу, тем меньше с ним церемонились. Если пьеса Островского имела успех, его старались притушить. После спектакля "Красавец-мужчина" в театре было вывешено объявление, что больше трех раз просят не вызывать автора. А "Без вины виноватые" тишком сняли с репертуара вскоре же после премьеры.
"Такое нарушение приличия, справедливости и авторских прав возмущает душу, - горько сетовал Островский; - они и умереть-то не дадут покойно. Пьеса имела громадный успех, большинство публики ее не видало; я приезжаю из деревни и узнаю, что публика требует мою пьесу, что артисты несколько раз просили поставить ее на репертуар, и она все-таки не ставится"
Заведующего репертуаром Погожева Островский всерьез не принимал, для него это был "нуль". Не злой демон, не негодяй - просто ничто. Порой он рассуждал даже, что при общем безвременье и безлюдье управление "нулем", пожалуй, лучший выход для театра. Ведь сколько дров может наломать деятельный дурак, невежда с реформаторским зудом в крови. "А от нуля какой же вред? - говорил Островский. - Бывает, конечно, что и нуль заносится, но, по отсутствию содержания в середине, он, при первом ассаже, сейчас же опять принимает свою круглую форму".
Однако ж и "нуль" поразил его как-то, явившись к нему домой на пасху в полной парадной форме - мундире, треуголке и при шпаге - и, после обычных поздравлений, предложил вступить с ним, как с начальником репертуара, "в сердечные отношения". Тогда и пьесы будут идти чаще, намекал он.
Не хватало еще Островскому давать взятки чиновникам конторы! Он отчитал Погожева, как мальчишку, сказав, что тот еще молод, недавно служит и должен бы остерегаться делать такие предложения солидным людям. Погожева как ветром сдуло, но, понятно, присутствию пьес Островского в репертуаре Малого театра это плохо помогло.
Мудрено ли, что при таком начальстве упала всякая дисциплина, всякая этика в театре. "Боже мой! Что за люди, что за отношения у них! Страшный, мрачный мир!" - писал Островскому Н.Соловьев, впервые оказавшись в 1879 году за кулисами прославленной Александринки.
Актеры привыкли опаздывать на репетиции, коверкали текст, откровенно скучали на сцене, пока партнер произносил свой монолог.
Репертуар строился возмутительно случайно, зависел от выбора актеров для бенефиса. А вкусы у бенефициантов не были безупречны. "Один говорит: "Давайте-ка я вам на будущей неделе "Гамлета" отмахаю!" А актриса: "Нет, прежде надо "Фру-Фру" поставить: у меня есть платье для этой роли".
Актеры приучались к утрировке, к внешнему паясничеству, и их уже трудно было заставить играть в серьезной пьесе. Проорать четыре акта благим матом или проходить колесом на сцене к удовольствию райка - вот все их искусство, возмущался Островский.
При Верстовском труппа Малого театра подбиралась с величайшим старанием, и все роли в пьесе идеально расходились между исполнителями. Теперь драматургу приходилось иметь дело с куцыми труппами, где рядом с мастерами играли посредственные ремесленники, а для некоторых ролей и вовсе не находилось актеров. Играть пьесу с такой труппой, говорил Островский, все равно что пианисту "давать концерт на инструменте, в котором половина струн порвана, а в остальных много фальшивых".
"Неурядица" исполнения начиналась с пренебрежения к тексту, оскорбительного для драматурга. Родоначальником этой дурной традиции был петербургский актер В.В. Самойлов, говоривший: "Пьесы - это канва, которую мы вышиваем бриллиантами".

худ. И.Н. Крамской
В Александринке Островской должен был иметь теперь дело с ученицей Самойлова - Струйской. Драматург страдальчески морщился, вспоминая, как проходил с ней роль царицы Анны в "Василисе Мелентьевой". Приходилось бесконечно объяснять и показывать ей, чтобы добиться хоть какого-то смысла в монологах. Тщетно. На премьере она, по словам Островского, читала вместо его стихов что-то свое.
Совсем же удручила его Струйская в роли Людмилы из "Поздней любви". Островский не был на премьере, но заподозрил что-то неладное, когда прочел в газетах укоры автору в очевидных психологических натяжках и несообразностях. Приехав в Петербург, он пошел на спектакль. И что же? В пьесе была тщательно обдуманная автором драматическая сцена, когда стряпчий Маргаритов, подозревающий Николая в краже документов, в отчаянии обращается к дочери: "Дитя мое, поди ко мне", а Людмила, любящая Николая, отвечает отцу после горького раздумья: "Нет, я к нему пойду". Вместо этого Струйская бойко сюсюкала: "Ах, нет, милый, добрый папаса, я к нему пойду!" С автором в эти минуты едва дурно не сделалось. Так испакостить роль, пьесу!
В последние годы в Александрийском театре стали восходить новые звезды - прекрасный бытовой актер Давыдов, комик Варламов, обаятельная Савина. Но их блистательное жизненное исполнение не было подкреплено ансамблем. К тому же даже молодая прима Савина играла неровно и не обладала вкусом в выборе пьес. Ее прельстил успех в одной из поделок Виктора Крылова, и теперь он писал для нее роль за ролью. К Островскому она разрешала себе относиться свысока.
Пьеса "Невольницы" чуть их не рассорила. Савина закапризничала и отказалась играть Евлалию, заявив, что не желает в свои двадцать шесть лет изображать двадцативосьмилетнюю героиню. Островский расстроился: не держать же ему у себя в столе метрики всех актрис, чтобы при писании ролей сверяться с их возрастом!
К несчастью, нечто подобное завелось в последние годы и в Москве. Когда-то старик Щепкин был ярым врагом любого калечения текста, того, что на театральном жаргоне невинно звалось "урезкой", "выкидкой", "вымарыванием"; не позволил бы он в серьезной пьесе и никакой "отсебятины". Теперь же, с падением художественной дисциплины, у актеров пропал всякий пиетет и к авторскому тексту. Мало кто старался понять и перечувствовать все вложенное в роль драматургом. Легче казалось подогнать текст пьесы "под себя".
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 12.11.2016, 22:30 | Сообщение # 41 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 291
Статус: Offline
| Между тем - стоило только вслушаться - сколько вмещало в себя каждое с любовью обдуманное слово у Островского! М.Г. Савина попросила как-то драматурга через посредство Бурдина разъяснить ей, как надо произносить в пьесе "Красавец-мужчина" слово "красавец" - с гневом ли, с презрением или любовью? И Островский ответил: "...скажи Савиной, что слово "красавец" надо произнести с горьким упреком, как говорят: "Эх, совесть, совесть!" Но тут есть оттенок в тоне; в упреке постороннего человека выражается, по большей части, полное презрение: а в упреке близкого, например брата, мужа, любовника, больше горечи, а иногда даже и горя, чем презрения. Так и в слове "красавец" должно слышаться, вместе с презрением, и горечь разочарования (т. е. досада на себя) и горе о потерянном счастье".Сколько же разных психологических оттенков, бликов заключала в себе для Островского едва ль не любая реплика!

Молодой еще актер А. И. Южин, ожидая выхода на сцену, стал однажды свидетелем того, как Островский неслышно прохаживался за кулисами в своем казакине на беличьем меху и в мягких плисовых сапогах. Он что-то приговаривал негромко, временами одобрительно кивал головой. Южин прислушался и различил слова: "Славно!.. Молодцы!.. Ладно!" Обрадованный успехом товарищей по спектаклю, Южин осмелился подойти к драматургу и спросил: "Вам нравится, Александр Николаевич, как играют?" "Нет, - отвечал драматург, - это я говорю: хорошо написал, Александр Николаевич!"
Однако в театре с литературой не церемонились. Талантливая молодая актриса Г.Н. Федотова ставила Островскому ультиматумы. Ее муж, режиссер А.Ф. Федотов, сообщал своей знакомой с оттенком гордости: "Жена заявила Островскому, что только в таком случае решится играть "Бешеные деньги", если он даст ей право выбросить из роли все, что она найдет нужным, и он, великий автор российский, сейчас же и дал свое согласие. Я вымарал целыми сценами - и следов не осталось от всех этих мерзостей". И так было не однажды. Федотова долго отказывалась репетировать главную роль в пьесе "Сердце - не камень", назначенную ей автором, а когда сыграла ее, все-таки ушла из спектакля после третьего представления...
Как обуздать капризы актеров? Как доказать им, что их пренебрежение к пьесе, к бережно обдуманному и выношенному труду, роняет их самих? Раньше Островскому казалось, что причина падения сцены - скудость репертуара. Теперь он утверждался в мысли, что сама слабость репертуара - следствие бедственного состояния сцены: упадка мастерства, дурного вкуса актеров. Стало быть, надо прежде всего реформировать театр.
Неправдой было бы сказать, что ничто в эти годы не утешало, не радовало Островского на сцене. Несмотря на все обиды, он ценил мастерство Савиной и Федотовой. Вдохновенно играли в его пьесах О.О. Садовская, Н.А. Никулина. Да и в Петербурге в 80-е годы появилась вполне его актриса - подлинная единомышленница в искусстве Пелагея Антипьевна Стрепетова.

Небольшого роста, невыгодной внешности - болезненная, пригорбленная, она обладала замечательной красоты голосом и редкой выразительности глазами. Ее природный артистический дар был настоящим чудом. Островский помог ей уверовать в себя, защищал от несправедливых гонений дирекции, писал для нее роли. В ее таланте было как раз то, что он более всего ценил, - умение передать простые, сильные чувства. Играя в Петербурге "Без вины виноватые", она подчиняла себе зрительную залу.
"Мужчины самые деревянные плакали, - сообщал автору свое впечатление от спектакля А.С. Суворин. - Возле меня сидел один художник, любящий корчить Мефистофеля. Он все время крепился, даже иронизировал надо мною, но последняя сцена так его захватила, что он приставил бинокль к глазам и продолжал в него смотреть на сцену даже после того, что занавес опустился. - Что вы, говорю, пойдемте. - А он все смотрит в бинокль, из-под которого слезы текли. И надо отдать справедливость Стрепетовой - она просто сама себя превзошла. Вы когда-нибудь посмотрите, что она делает после того, как срывает медальон и говорит "он, он!". Это вдохновенное у нее место, нечто такое, что вообразить себе трудно. Такая радость, ангельская какая-то, блаженная, какой я никогда не видал ни в жизни, ни на сцене. По-моему, этому моменту в ее игре даже подражать нельзя".
Ради таких минут и существует искусство театра: Островский знал это. Но знал и другое: гениальная Стрепетова, как и Давыдов, были чужаками на этих подмостках. Будто залетные птицы, чужестранцы, гастролеры в петербургской труппе - так мало поддерживал их ансамбль, так бедно и беззвучно было все округ.
Тень той же беды лежала и на любимом его Малом театре, который он давно уже не называл иначе, как "наш несчастный Малый театр". Надо было многое пережить, чтобы признаться себе: "Это убеждение, что театр мой, что я что хочу, то в нем и делаю, - фальшиво".
Здесь играли его друзья - Музиль, М. Садовский, стареющая Рыкалова. Здесь на его глазах восходило новое светило драматической сцены - Мария Ермолова.

Но что-то бедственное случилось и с этой, "небывалой в мире" труппой.
И, мечтая о реформе сцены, Островский думает о том, как помочь любимым своим актерам выйти из бесхудожественной, понижающей их талант среды, как снова вернуть театру достоинство творческого организма, обрученного не с интригой, дележкой окладов и ролей, а с высокой литературой.
Для того он и сидит, не разгибаясь, и не спит ночей, составляя доклады и записки, призванные по-новому поставить театральное дело в России.
Он еще не знает, что нельзя создать цветущий оазис театра в безводной пустыне общественности и культуры. Он будет биться и разобьется о рутину своего времени. А пока, не догадываясь об этом, все гребет и гребет - против течения.
ПУТЬ В ЭЛЬДОРАДО
Три раза в жизни был взыскан Островский царской милостью:
когда Николай I сказал о "Санях", что это не пьеса - а "урок";
когда Александр II повелел наградить его за "Минина" бриллиантовым перстнем;
когда Александр III пожаловал ему через контору золотую табакерку за участие в Комиссии по пересмотру положения о театре.
Табакерка в стиле "рокай" с царским вензелем под короной и драгоценными камнями на синей эмали стоила 79 рублей 50 копеек. Это точно удостоверил оценщик, к которому Миша Садовский снес ее в предвидении ближайших нужд драматурга. "Тем эти вещи хороши, приятны, что, случись нужда, сейчас и заложить можно", - скажет в его новой пьесе Домна Пантелевна...
Впрочем, табакерка была очень красива. Царский подарок напоминал о нравах двора Елизаветы: так награждали пиитов в случае удовольствия заказной одой. (Случалось, при неудаче и прибивали тростью.) О театральном сочинителе Александр III мыслил, по-видимому, в семейных традициях минувшего века.
Табакеркой с вензелем увенчались многие месяцы трудов, напрасных упований и несостоявшихся надежд Островского.
Осенью 1881 года он приехал в Петербург с двумя обширными записками: "О положении драматического искусства в России в настоящее время" и "О нуждах императорского театра".
Отложив в сторону пьесу, он работал над ними день и ночь, перемарывал, переделывал, и теперь они казались ему составленными, как надо: деловито и без лишней запальчивости. Не было в них изукрашенности слова, желания понравиться, щегольнуть изящным оборотом... Лишь бы сказать то, что хочешь, - точно, ясно, неопровержимо.
Он только еще собирался подать одну из этих записок новому министру двора И.И. Воронцову-Дашкову, как его пригласили участвовать в Комиссии по пересмотру всех частей театрального дела: оказывается, таковая давно уже была определена и работала под эгидой Всеволожского.
Министр сам пожелал его видеть. "Я вчера был у него, - делился Островский с женой доброй вестью, - он меня принял обворожительно, долго говорил со мной, обо многом расспрашивал; он желает, чтобы я заседал в Комиссии и желает знать но каждому предмету мое мнение. Не могу же я отказаться..."
Тут весь Александр Николаевич - поманили его добром, и вот уж он полон веры, и счастлив, и весел, как дитя!
Свое назначение в Комиссию он так и назвал сгоряча "неописанным счастьем". То, о чем он мечтал, на что едва смел надеяться, казалось, стронулось само собой. Вопреки тусклому фону времени, в театре как будто ожидались перемены.
Быть может, тут был расчет: хотели бросить обществу кость, успокоить недовольных, завоевать симпатии образованного круга? Отнимая большее, правительство готово было уступить в малом и политическим реформам предпочло театральные.
Как бы то ни было, но Островский отнесся к этому делу горячо, добросовестно. Пять месяцев - всю осень и зиму - пробыл он в Петербурге, никуда не выезжал, почти ни с кем не встречался. Аккуратно ездил в Комиссию, готовился к каждому заседанию, писал "мнения" и записки, где разбирал вопросы о труппе, репертуаре, о театральной школе. Крупные перемены на русской сцене грезились ему.
В Комиссию помимо чиновников входили драматурги Д.В. Аверкиев и А.А. Потехин.
 
Но собратья по перу вскоре его разочаровали: Потехин больше всего волновался о гонораре, Аверкиев вел себя надменно, и в конце концов Островский убедился, что перед ним "союз человека, обуреваемого самомнением до помешательства, с человеком, корыстолюбивейшим из смертных, когда-либо получавших поспектакльную плату с Импер[аторских] театров".
Ханжою Островский не был и сам "плакал от радости", когда в Комиссии был утвержден проект о праве наследования, по которому его дети должны были получать деньги за пьесы пятьдесят лет после смерти отца. Но ждал он от Комиссии не одного этого. А между тем доклады его почтительно выслушивались, принимались, но он уже чувствовал, что ходу им не дадут.
Так и случилось. "Я сеял доброе семя, но ночью пришел враг мой и посеял между пшеницею плевелы", - поминал Островский древний текст.
Комиссия много занималась вопросами об окладе актерам и уничтожении "разовых", но важнейшие мысли Островского о составе труппы, о театральной школе, о репертуарном комитете были незаметно затерты и так и остались втуне. Островский чувствовал себя обманутым.
Хорошо еще, что другая его записка - о народном театре - как будто пришлась ко времени и могла рассчитывать на успех. Он подал ее министру внутренних дел Н.П. Игнатьеву, испрашивая разрешение на открытие в Москве нового театра, независимого от петербургской дирекции. На императорские театры приходилось махнуть рукой.
Мысль создать частный общедоступный театр вызревала у него давно, еще с той поры, как на Политехнической выставке 1872 года с огромным успехом выступал временно созданный народный театр. Здание этого театра вскоре разобрали на бревна и продали для сокольнических дач, труппа разбрелась. Но добрая память о театре, в котором играли М.Писарев, В.Макшеев, Н.X. Рыбаков, осталась у москвичей. А недавний ошеломляющий успех комедии "Свои люди - сочтемся!" в театре "близ памятника Пушкина", когда Островского засыпали цветами и увенчали позолоченным венком прямо на сцене, окончательно утвердил его в том, что на императорских театрах свет клином не сошелся.
Однако частные театры не охотно дозволялись правительством: монополия императорской сцены оберегалась строго.
Ему хотелось кричать: русский театр гибнет! Но он знал - тут эмоциями не возьмешь. Он мечтал теперь получить "хоть маленький балаганчик на стороне". И для этого надо было, вооружившись пером, убеждать, обосновывать, доказывать.
Островский всесторонне исследовал театральное дело в Москве, состояние труппы и репертуара в его прошлом и настоящем. Он уделил особое внимание публике, написав целый исторический очерк московского зрительного зала с памятных 40-х годов.
В самом деле, как вырос числом и изменился состав этой публики! Не одни люди образованного круга и богатые торговцы составляют теперь ее, но и приказчики, учащаяся молодежь, ремесленники... Его интересовали и те зрители, что ходят в театр регулярно, и те, что приезжают сюда одни раз в год на масленую - из Таганки, с Рогожской, из Замоскворечья. И те, что являются сюда в вечерних платьях и фраках, и те, что приходят в платочках и занимают место на галерейке - "постоять".
Он говорил об огромном цивилизующем значении театра. О том, что мастеровой, вместо того чтобы убить праздничный вечер в пьяном угаре, должен найти дорогу в театр. И приезжий купец должен прийти сюда, а не кружить по ресторациям и трактирам. Он говорил, что в Москву по шести железным дорогам каждый день течет и течет российский люд и "все, что сбросило лапти и зипун", очеловечивается с помощью театра.
И всей этой свежей публике, которую давно не вмещает Малый театр, нужен театр свой, народный и общедоступный. Он будет народным не потому, что станет поставлять примитивное, сниженное в цене искусство. Напротив, тут не окажется места ни пряностям оперетки, ни балаганным эффектам, тут не будут выводить индийских слонов на сцену. Высокое и нравственно здоровое искусство имеет свой секрет захвата: "сильный драматизм, крупный комизм, вызывающий, откровенный, громкий смех, горячие, искренние чувства, живые и сильные характеры".
Все это он подробно развивал и доказывал в своих записках, а смысл был один: монополия казенной сцены завела театр в тупик- пора разрешить Москве народный театр!
Поданная графу Игнатьеву записка неожиданно получила успех. Александр III милостиво начертал на ней: "Было бы весьма желательно осуществление этой мысли, которую я разделяю совершенно".
Вряд ли царь одобрил затею Островского из просветительных соображений. Его первый советчик обер-прокурор Победоносцев давно носился с мыслью, что театр, если его правильно поставить, наряду с церковью поможет отвлечь народ от социальных "бредней".
Так, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Власть из своих видов стала поощрять заветную идею драматурга.
Островский снова расцвел, ожил надеждами. Ему, как председателю Общества драматических писателей, было разрешено основать новый театр в Москве.
Он уже видел в мечтах этот театр - красивый, удобный, возведенный на открытом месте, возле стены Китай-города, напротив Большого. Театр - гордость Москвы. Театр с новейшей машинерией, огромным залом, дешевыми местами для публики. Театр с художественным репертуаром, с искусно подобранным составом труппы... И себя видел новым Верстовским - пожизненным управляющим своего детища.
Дело встало за малым: нужны были деньги. Он стал встречаться с промышленниками, миллионерами, московскими купцами, усердно искал богатых меценатов. Замелькали перед ним лица - Кузнецов, Губонин, Щукин, Алексеев, Рябушинский, Третьяков. Иные соглашались дать капитал, но оговаривали условия, иные не спешили согласием.
А пока, добиваясь аудиенций у толстосумов, завтракая с миллионерами, Островский шел к цели, судьба поставила ему подножку: частные театры были разрешены по всей России и только что данная ему привилегия мгновенно потеряла цену. Он еще обламывал своих кредиторов, а предприимчивые дельцы уже возводили в разных концах Москвы сразу два новых театра. Работа кипела споро, кирпичная кладка шла даже ночью, при электрических дуговых фонарях, и каждый удар плотницкого молотка звучал похоронным рефреном мечте Островского. Он понял, что опоздал, и отступился.
Ему по-прежнему оставалось одно - влачить дни драматурга, поставляющего по пьесе к сезону. Возмечтав о своем театре, получив иллюзию независимости, Островский еще болезненнее отзывался на унижения от чиновников императорской сцены. Его уже собирались ставить в парижских театрах "Одеон" и "Жимназ", знакомый моряк, его страстный поклонник, рассказывал, что играл его пьесы с любителями на мысе Доброй Надежды и в Рио-де-Жанейро... Но нет пророка в своем отечестве, и здесь на каждом шагу он должен был спотыкаться о пустоглазого Всеволожского, властолюбивого Пчельникова, о конторщика с треуголкой...
Осенью 1883 года, душевно измученный и разбитый, он поехал с братом на Кавказ - хлебнуть воздуха свежих впечатлений, немного отвлечься. Эта последняя в его жизни поездка в иные края была необыкновенно отрадной для него. Не только потому, что он смог насладиться красотой снеговых вершин Кавказского хребта, увидеть дивную картину бакинских промыслов - тысячи огней на ночном море, навестить могилу Грибоедова у церкви святого Давида, прилепившейся над горой как гнездо ласточки... Здесь он смог убедиться в своей популярности, почувствовать себя уважаемым писателем, испытать силу кавказского гостеприимства.
Он едва не разрыдался, когда в переполненном театре грузинские артисты разыгрывали его "Доходное место". В караван-сарае, напротив входа, висел убранный зеленью и цветами транспарант с его вензелем, оркестр встретил его торжественным маршем, поэт Цагарелли обратился к нему со стихотворным приветствием, и весь зал, стоя, пел ему по-грузински "Многая лета". Овации, бенгальские огни, приветствия труппы - Островский устал раскланиваться из своей ложи.
Он так посвежел, ожил от этой поездки, будто сбросил с плеч десяток лет. И необыкновенно скоро и удачливо написал пьесу "Без вины виноватые"...
Но дома, в Москве, праздничные впечатления выветрились быстро. Его по-прежнему выживали из репертуара, пьесы его шли плохо, поспектакльная плата падала, и он задыхался в долгах и денежных счетах.
Марья Васильевна уже сносила вещи в заклад, и Островского угнетала мысль, что он не оставит детям ничего, кроме списка долгов да "честного имени отца".
Жена упрекала его в непрактичности, требовала, чтобы он отделал, наконец, пьеску для Корша, озаботился повыгоднее пристроить книгопродавцам свои переводы.
"Я доведен до последней крайности, - писал он в 1883 году Бурдину, - до положения безвыходного; Мария Васильевна больна, я от постоянных волнений разбит окончательно, у меня замирания сердца и обмороки. В ожидании обещанных мне милостей я не получаю ни с одного театра с августа месяца поспектакльной платы и живу в долг; я затянулся так, что не вижу выхода".
Между причинами своей болезни Островский главной считал - "нравственное угнетение", усугубленное постоянной нехваткой денег, необеспеченностью семьи.
В начале 1884 года случилось событие, немного его подбодрившее: он получил от двора пенсию в 3 тысячи рублей годовых. Пенсия, которой он безуспешно добивался пятнадцать лет, была назначена менее чем за пятнадцать минут. Как-то во дворце, на ходу, брат-министр пожаловался царю на бедственное положение брата-писателя, и дело было решено незамедлительно.
Большого прилива благодарности драматург, впрочем, не ощутил. Пенсия была вдвое меньше, чем он просил, да и досадно было получать ее по протекции, как милостыню. Друзья это почувствовали. Скульптор Микешин написал ему, что хотел было поздравить с царской милостью, да, поразмыслив, удержался и даже как-то обиделся за драматурга, награжденного за свое "беспримерное дело" точно так, как награждают за выслугу лет начальника отделения где-либо в Управе благочиния или сыщика Николича, поймавшего Нечаева. Но все-таки надо было ехать в Петербург, благодарить за табакерку и пенсион, представляться царю.
Александр III все откладывал коронацию из страха перед революционерами и жил "гатчинским пленником" в своем загородном дворце. Обыкновенно аудиенции у него ждали неделями. Но Островского он принял на другой же день по приезде - 5 марта 1884 года. Брат проводил его по коридорам дворца.
- Вы меня, надеюсь, знаете, и я с вами знаком, - сказал царь подготовленную заранее фразу. - Очень рад видеть вас у себя и познакомиться с вами лично.
И он, как особо отмечают благонамеренные биографы, с улыбкой подал руку Островскому. Пожать царскую руку доводилось не всякому: по-видимому, Александру приятно было видеть облагодетельствованного им человека.
Беседа продолжалась около четверти часа. Царь прохаживался по кабинету. Островский стоял, почтительно склонив голову. Желая быть любезным, Александр III заметил, что недавно видел в театре пьесу "Красавец-мужчина". Но спросил: почему драматург выбрал такой сюжет? Очевидно, появление на императорской сцене героя сомнительной нравственности смутило его.
- Дух времени таков, ваше величество, - учтиво, по твердо отвечал Островский.
Царь говорил еще что-то о том, что ему нравятся пьесы Бьёрнстона, и пересказывал сюжет одной из них. Расспрашивал, нет ли Бьёрнстону подражателей среди молодых русских авторов, и отечески наставлял Островского: "Наша драматическая литература бедна; поощряйте молодых писателей и руководите ими". Будто бы Островский не догадался прежде этим заняться! Но такой поворот беседы был ему на руку, он упомянул о Соловьеве и Невежине. Царь выслушал его милостиво и отпустил с миром.
Прощаясь, царь, как с острой своей наблюдательностью заметил драматург, нажал какую-то кнопку на столе. По этому знаку за дверьми кабинета драматургу в компании трех или четырех предупредительных флигель-адъютантов был сервирован завтрак с маленькими графинчиками. Большего внимания, кажется, трудно было ждать!
О главной своей заботе - бедах русского театра - Островский не рискнул говорить во дворце. Да и брат учил его, что дела эти решаются не в царских покоях, а с департаментскими людьми. Важно, что царь принял его в "особой аудиенции" и теперь в глазах любого чиновника он вырос на три головы.
С одним из "нужных людей", новым начальником дворцового контроля Николаем Степановичем Петровым, свел его брат. В застольной беседе за обедом у министра государственных имуществ Островский рассказал ему о своих огорчениях, о разочаровании в трудах Комиссии 1881 года.
Новая идея его была: раз не удалось дело с народным театром, попробовать все же реформировать театр императорский. Преградой тут был "директор-парфюмер" Всеволожский, но он плотно сидел в своем кресле. Начальником репертуара он держал теперь при себе в Петербурге драматурга А.А. Потехина; из былого приятеля Островского выработался усердный служака. Оставалось одно: просить выделить московскую сцену из-под петербургского управления.
Островского давно возмущало, что петербургская дирекция смотрит на московский театр как на свалку всяких бездарностей: сюда переправляли из столицы актеров по протекции. Заставили принять капризную интриганку - дочь Потехина Раису, хотя знали, "что за актриса Раиса". Сплавили в Москву бездарную Волгину "округлой лоснящейся рожей, с выстриженным лбом, с бесстыжими глазами, каждый жест которой непристоен и от разговора которой краснеют мужчины..."
Это делалось будто нарочно, чтобы унизить московскую труппу, которая все же обладала превосходством над петербургской и оттого недолюбливалась директором. Московским театром Всеволожский руководил теперь по телеграфу, благо эта новинка вошла в быт. Приказывал отбить распоряжение "храброму подпоручику" Пчельникову об увольнениях и наборе в московскую труппу, да и дело с концом.
Островский жаловался Петрову на чиновников московской конторы, которые, вкупе с петербургскими, представлялись ему какой-то ордою, которая вдруг набежала, разрушила и опустошила все.
Его более всего заботила мысль об упраздненной театральной школе. Клубное любительство захлестнуло сцену, терялись самые мерки мастерства, умирала культурная традиция. Он мечтал теперь о том, чтобы возглавить школу, готовить будущих артистов, и, поговорив с Петровым, получил какую-то надежду на это.
Но, вернувшись в Москву, узнал, что руководство школой поручают актеру О.А. Правдину, приехавшему из провинции. Он принял это как удар, как личное оскорбление.
"Теперь у меня все разбито, - писал он брату в сентябре 1884 года, - нет ни цели в жизни, ни надежд; жизнь души убита, остается только мучительное физическое существование. Я брожу по дому, как тень, заняться ничем пристально не могу; если задумаюсь над чем-нибудь, - лезут непроизвольно в голову странные мысли и воспоминания, и я в них путаюсь; читать ничего не могу, даже газет. Я совсем почти не сплю; забудусь ненадолго - и вдруг просыпаюсь, точно в испуге; но не испуг, а чувство обиды мгновенно охватывает душу: написана пьеса, публика ей обрадовалась, желает ее видеть, а ее не дают; и гнетет душу сознание, что твое право нарушено и тебе нет возможности добиться справедливости. Потом разливается по всему организму чувство стыда, вспыхивает лицо при воспоминании, как ты донкихотствовал, работал, мучил свой мозг, как ты долго боролся с собой и, наконец, решился предложить свои услуги, в которых никто не нуждается, потому что дело, которое ты изучал всю жизнь и о котором ты убивался, нашли возможным поручить первому попавшемуся провинциальному актеру. Так жить нельзя, и в Москве мне жить нельзя; с Москвой меня связывал театр, в Москве я и знал только театр, он был моим единственным интересом. Теперь этого интереса нет, - и я должен бежать из Москвы и где-нибудь заживо похоронить себя... Господи! мог ли я когда думать, что придется так печально кончить в Москве свое драматическое поприще, которое я с таким успехом начал и с такой славой тридцать с лишком лет проходил!.."
Как сердце не разорвалось, когда он писал это письмо!
Но верно говорят, что беда одна не ходит. Пока он предавался отчаянию от известия о московской школе, в Щелыкове случился ночью пожар. Крестьяне, чем-то недовольные, скорее всего, обращением с ними Марьи Васильевны, подожгли со всех углов гумно. "Через десять минут это был ад. Хорошо, что было тихо; если бы северный ветер, который только что затих, не было бы никакой возможности спасти усадьбу!" Островский потерялся среди этого пламени, плача, суматохи, женских криков и чувствовал, что за одну ночь постарел на несколько лет.
Однако так силен еще был в нем запас жизни, что он выдержал и это - не погиб, не бежал из Москвы, как сулил брату, не спрятался от людей, а спустя два месяца снова был в Петербурге с настроением деловым и решительным. Опять говорил с Н.С. Петровым о перестройке театрального управления и сам согласился, при условии выделения московского театра, надеть мундир чиновника дворцового ведомства.
Что и говорить, его пугала перспектива тревог и неприятностей, сопряженных с казенной должностью. При слове "служба" что-то обрывалось у него внутри. Теперь уж не суждено ему будет дожить свой век покойно. Но выбора ему не было.
"...Я задыхаюсь и задохнусь без хорошего театра, как рыба без воды, - написал он в своей "исповеди". - Ясные дни мои прошли, но уж очень долго тянется ночь; хоть бы под конец-то жизни зарю увидеть, и то бы радость великая".
Островский понимал, что в начальники он не годится. И решил так: он будет просить для себя художественную часть, то есть руководство репертуаром и школой, а директором пусть назначат близкого ему человека А.А. Майкова, племянника поэта, служившего в канцелярии московского генерал-губернатора. Майков человек дельный, литературный, имеет чин камергера, что важно для двора, и по вкусам родствен ему; с ним они будут - "два тела, одна душа".
Отделение московского театра было ему окончательно обещано осенью 1884 года, но если б он знал, сколько месяцев ожидания, разочарований, тревог ждет его впереди!
Он давно положил себе правилом - стоически относиться к жизни, не проклинать ее, не сетовать. Пора успокоиться на мысли: жизнь груба, сурова, безотрадна. Человек тысячи раз ушибается об ее углы, но духа терять не должен, не имеет права. Ведь дан ему на что-то божественный дар и не напрасно призвание.
В пьесе о людях театра - "Таланты и поклонники", писавшейся в дни работы Комиссии 1881 года, многое сказано о русском актере, о крестном пути искусства.
Силой обстоятельств, интригами, преследованием бездарностью, Негина принуждена оставить город, ставший свидетелем ее театральных триумфов, и уехать с Великатовым. Ее поступок внешне безнравствен. Но такова, надо признаться, и вся жизнь вокруг. Искусство не может защитить самое себя и идет под покровительство к богатому дельцу. "Когда царит грубая сила, цинизм, поэзия складывает крылышки и робко удаляется", - так закапчивалась черновая рукопись комедии, названной поначалу "Мечтатели". А в пьесе "Таланты и поклонники" честный студент Петя Мелузов, милый ригорист, проповедует до конца, что нельзя человеку сдаться перед неправой силой. И если он, Мелузов, перестанет обличать ложь и сеять зерна просвещения - "покупайте револьвер..."
Негина уступила жизни, спасая свой талант, и она права. Мелузов не сдался перед жизнью - и он прав тоже.
Островскому слишком хорошо знакома эта дилемма: он шел на поклон к купцам за деньгами для театра, он терпел унижения в театральных канцеляриях. Но знал: ни за что не соступит со своего пути и лучше умрет, чем откажется от борьбы за театр.
В последние годы все чаще тревожит его воображение один образ - рыцаря из Ламанчи. Какую-то важную для себя тему угадывает он в нем. И, с увлечением перечитывая великий роман Сервантеса, думает о театре и о себе: "Поборники правды, чести, любви, возвышенных надежд еще не сошли со сцены, - рыцарь еще не побежден окончательно, он еще будет бороться с неправдой и злом".
И неизменно утешает молодых друзей: "Просветлеет, разгонит шушеру, тогда и мы пойдем туда, где послужим делу".
Давно предрешенное назначение Островского в управление московскими театрами между тем почему-то затягивалось. Островский не находил себе места. Постоянное беспокойство вызывало припадки удушья.
"Точно тебе закрыли рот подушкой, - писал он брату, - и, когда ты уж начинаешь терять сознание, тебе дают несколько передохнуть, потом закрывают опять. Начало этой болезни, конечно, кроется в моем организме, но она поддерживается и питается постоянным волнением, которое я по приезде из Петербурга ежедневно испытываю... Ожидание все-таки лучше, чем безнадежность. Но как ухитриться, чтобы не чувствовать и не волноваться, пока ждешь? Есть пословица: "Пока взойдет солнце, роса глаза выест".
Лето 1885 года Островский, как обычно, провел в Щелыково. Но почти не выходил из кабинета, разве что на несколько минут в сад. Уже второй год он не ходил на рыбную ловлю: трудновато стало спускаться к омуту, да и недосуг было. Он говорил теперь, что ездит не из Москвы в деревню, а из кабинета в кабинет - из московского кабинета в щелыковский, и природу видит "только проездом".
В прошлом году он еще писал пьесу для бенефиса Стрепетовой - "Не от мира сего". Дописывал ее с мучительным кашлем, расстроенными нервами, будто последним напряжением пера - и добросовестно извещал торопившую его актрису: "...пьеса поспеет к сроку, если я не умру".
Ныне он впервые освободил себя от неписаного зарока - доставить к сезону новую пьесу. Иная работа казалась ему важнее и забирала все оставшиеся силы: он готовился управлять театром, составлял проспект репертуара, обдумывал программу школы.
Он чувствовал, что тянет из последнего, и даже друзья-актеры, привыкшие посмеиваться над его мнительностью, стали поглядывать на него с беспокойством. Еще весной он сообщал Модесту Писареву:
"Мое здоровье очень плохо; два сильных припадка удушья разбили меня: я уж едва двигаю ноги и без провожатого выехать из дома не смею. Меня душит и днем и ночью; доктора говорят, что сердцу стало тесно. Надежды на выздоровление я не имею никакой..."
Летом 1885 года его трепала лихорадка, поднимая такой жар, что "лопался язык и трескалась кожа во рту". А между тем он был занят проектами переустройства Малого театра, как будто впереди у него были годы и годы.
Он успел сговорить начинающего драматурга Николая Антоновича Кропачева пойти к нему секретарем в случае, если сам он будет назначен, и теперь убеждал его терпеливо ждать вместе с ним известий из Петербурга, потому что "это счастье", а счастье торопить нельзя.
Но сам торопился - ждать было так трудно, и уже составлял репертуар на будущий сезон, будто находился в должности, и приглашал к себе в деревню режиссера Кондратьева, хотел получить от него и пересмотреть списки артистов, чтобы заранее избавиться от бесполезного балласта. Он был так горд предстоящей ему миссией, что, вопреки всем суевериям и выработавшейся в нем скрытности, проговаривался своей нижегородской корреспондентке А.Д. Мысовской: "С начала настоящего сезона Московские императорские театры поступают под мое управление; мне хочется поставить дело серьезно. До сих пор пироги пекли не пирожники, а... Серьезный репертуар для всего сезона у меня уж составлен; но есть большой пробел в легком репертуаре..." И он предлагал Мысовской сочинить пьесу для детских утренников, будто уже был директором.
Так текли месяцы. Задержку с его назначением объясняли то летними отпусками, то отсутствием в Петербурге министра и государя. И вдруг - письмо от брата: Островскому дают должность почетного попечителя театральной школы, а на службу не берут.
Как описать его отчаяние? С ним сделалось дурно. Его едва привели в чувство. "...Да разве я просил при театре почетного звания? - горько сетовал он в письме брату... - Для меня теперь уж нет ничего другого: или деятельное участие в управлении художественной частью в Московских театрах, или - смерть".
Он привел в порядок свою "исповедь" - автобиографическую записку о театре, которую собрался послать в "Русскую старину" Семевскому, чтобы ее напечатали после его смерти. Говорил, будто прощался: "...В Москву уж не поеду, а спрячусь куда-нибудь; куда, еще не знаю; вернее всего, что в землю. Я, разумеется, не буду ничего делать для того, чтобы умереть; но так как жить незачем, то я ничего не буду делать и для того, чтобы жить; а этого, при постоянной отчаянной тоске о погибших надеждах, довольно, чтобы страдать недолго".
Представим себе осеннее Щелыково, где он ждет вестей из Петербурга, - дождь, грязь, ветер, в Москву выехать нельзя - водою залило дорожные колеи, и, кажется, все в жизни обмануло... Неужто можно пережить и это?
А тут новое письмо от брата, и он извещает, что все повернулось снова и должность ему дают. Просто в Петербурге, по-видимому, оказалось немало людей, для которых, как для Всеволожского, он был бельмом на глазу. Формальным поводом к неутверждению его в должности, как выяснилось, было то, что он имел чин всего лишь губернского секретаря, слишком мизерный для дворцового ведомства. Хорошо Майкову, который носит камергерский ключ на штанах! Островскому до него служить и служить.
Но и это в конце концов развязалось, и после еще одного запроса генерал-губернатору Долгорукову относительно его благонадежности Островский представлялся в Петербурге министру и получал, наконец, поздравления с вступлением в должность, которой он теперь так страстно желал. Сбывалось то, что он пережил в душе уже год назад, когда писал жене:
"Сколько я страданий перенес о театре. Я пять лет только о нем и думаю и чуть с ума не сошел. Писал записки о частном театре, писал проекты для Имп[ераторского] театра, заседал в Комиссии, исписал горы бумаги; и все-таки меня никто не слушал, искусство падало да падало, и театр уходил от меня все дальше и дальше. И вдруг у меня театр, мой театр, совсем мой, и я в нем полный хозяин..."
14 декабря 1885 года Островский имел повод снова вспомнить шутливую примету о значении числа 14 в своей жизни. В этот день в курьерском поезде, в компании А.А. Майкова и оказавшегося тут же по случаю композитора Чайковского, Островский подъезжал к Москве. Он ехал победителем.
На вокзале Николаевской железной дороги его ждала предупрежденная по телеграфу семья. Но здесь же неожиданно оказались возбужденные, радостные от вести о грядущих театральных переменах артисты Малого театра. На перроне были Ермолова и Федотова, Садовский и Никулина... Цветы, улыбки, приветствия.
Актеры упросили Островского зайти в вокзальный буфет - немного отдохнуть с дороги. Велели подать шампанского и дружно прокричали "ура" в честь старого своего наставника и друга, ставшего теперь и официальным их главою.
О, сладкий вкус победы! Это был высший миг в мучительной судьбе Островского, когда впору было приказать мгновению остановиться... Но подали лошадей, надо было собираться домой.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 11:40 | Сообщение # 42 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 291
Статус: Offline
| Провожаемый веселыми возгласами, Островский сел в сани с Марьей Васильевной. Лошади тронули...
"После бурного плаванья я нашел не только покойную пристань, но Эльдорадо, т. е. осуществление моих заветных надежд и мечтаний", - вот что он чувствовал тогда.
ПОСЛЕДНИЙ АКТ
1 января 1886 года Островский сидел хозяином в директорской ложе Большого театра. В той самой ложе, из которой когда-то следил за игрой актеров Верстовский и откуда он сам тридцать три года назад на премьере "Саней", молодой, неловкий, смущающийся, впервые раскланивался с публикой.
Шел балет "Прелести гашиша, или Остров роз". Машины и освещение были из рук вон плохи. Пятнадцать лет Островский не бывал в театре, разве что на своих премьерах. Говорил, что не хочет смотреть чужих пьес, чтобы случайно чему дурному не научиться. Теперь он следил за всем придирчивым, хозяйским глазом.
Гордое чувство владело им. Он проходил коридорами театра в синем, ладно сидевшем на его грузноватом теле костюме, важной, степенной походкой и приветливо улыбался всем - от премьера труппы до капельдинера, чуть наклоняя вбок свою большую голову. Куда девались его печали, недомогания возраста, болезни!
Первые два месяца каждый вечер (а когда шли утренники и поутру) он к третьему звонку уже сидел в своем директорском кресле - не в Малом, так в Большом, не на драматическом спектакле, так на опере или балете. Надо было пересмотреть весь репертуар, чтобы составить свежее, непредвзятое мнение об актерах и спектаклях, прежде чем приступать к решительным переменам. Впечатления он заносил во вновь заведенный дневничок:
2/14 (января). Четверг. Утром был в Малом, а вечером в Большом. "Вражья сила". Хорош был Еремка - Стрелецкий и Вася - Додонов, Корсов еще нравится публике. Стрелецкого и Додонова можно приспособить к феерии.
3/15 (января). Пятница. Утром в Малом "Ревизор" - Садовский- Хлестаков; все человеческие черты верны, но мало окраски, то есть мало петербургского. Вильде играет нарочно, Дурново мало ехидства, Городничий мягок, мало бурбонства, и пр.". И так изо дня в день.
"Играет умно", "недурен", "хорош" - так оценивал он понравившихся ему артистов. "Без жизни", "читает неосмысленно", "каша во рту" - отмечал он для себя неуспех исполнителей.
От его взгляда не ускользнуло, что у Ивана Сусанина на сцене сверкнули из-под кафтана золотые запонки на манжетах - какая все же расхлябанность! И что костюмы в русской пьесе скроены излишне щеголевато - куда лучше было бы, если б их шили портные, делающие одежду для кучеров. В одном спектакле пистолеты не стреляли - выговор бутафору, в другом - упал на актера с колосников плохо прикрепленный лист картона - указать осветителю.
Разве такое возможно в Мейнингенской труппе, которую он недавно видел? Об искусстве немецких артистов можно по-разному думать, но вот где настоящая дисциплина, аккуратность и подлинность во всех мелочах постановки...
Присматривался он и к публике, ее поведению, реакциям. Кстати обнаружил: шумят в начале спектакля, перекоряются. Не оттого ли, что плохо видят сцену за вошедшими в моду громадными дамскими шляпами с перьями? И вот у вешалки появляется объявление с почтительной просьбой к дамам при входе в зал снимать головные уборы. Но главное, конечно, репертуар.
"В усадьбе Поводаевой", - помечает он для себя. - Пьеса сделана сценично, но неумно. Есть пошлые сентиментальности и противные фразы в модном тоне: например, "начинается светлая жизнь" - это говорит учительница в купеческом доме".
Да, тут не знаешь, с какого конца и начать - так загубило, замусорило театр "конторское управление"! Надо менять репертуар, перестроить режиссуру, очистить труппу от бесполезностей, ввести дублеров на главные роли, учредить репертуарный совет - да мало ли что еще!
Репертуарному совету при театрах Островский придавал значение особое. Ему хотелось, чтобы, как в дни его молодости, к театру тянулась ученая и литературная Москва. Чтобы это был не придворный балаган, а современный литературный театр, зеркало культуры. И он привлекает университетских профессоров И.И. Стороженко, Н.С. Тихонравова, драматурга Н.А. Чаева - помочь ему в составлении репертуара, участвовать в пробных испытаниях драматических артистов.
Островский начинает ходить на репетиции. Он сам разбирает с актерами роли в своем "Воеводе" и "Марии Стюарт" Шиллера. Пытается применить к актерскому искусству мысли физиолога Сеченова о "рефлексах", которыми он увлекся, прочтя его статью... Актер не должен "вырабатывать" готовый жест: он должен являться сам, непроизвольно, естественно, как внутренний ответ, как рефлекс на смысл и тон сказанного. Надо жить на сцене, играть роль, а не амплуа.
На первой читке "Воеводы" Александр Николаевич обратился к артистам с маленькой речью:
"Я, господа, ввожу для постановки всех новых пьес такое правило: кроме этой читки, еще будет три. Поставим на сцене столы, засядем все, и каждый будет читать свою роль, давая по возможности тон и характер лица. Это важно потому, что все участвующие будут вслушиваться в общий строй и таким образом все сольется в единый хор. Прямо переходя к движениям и игре на сцене, этого строя достигнуть очень трудно. И вы увидите это на деле, когда мы начнем репетицию после этих трех считок. Дальше считаю необходимыми генеральные репетиции в костюмах. Это также хорошая проверка того, что сделано".
Не все артисты довольны: мастера "штук" на публику и эффектных поз тайно негодуют и переучиваться не хотят. Но у Островского достаточно союзников среди лучших артистов труппы: Ольга и Михаил Садовские, Музиль, Бороздина, Ермолова идут за ним, и недовольные голоса понемногу замирают.
Если нет репетиции или спектакля, утро нового управляющего художественной частью занято кабинетными делами: составлением и подписыванием бумаг, приемом посетителей. Помогает ему тут Кропачев - начинающий литератор, щупленький с усиками человек, старательный и беспредельно преданный Александру Николаевичу, который зовет его дружески-фамильярно - amicus.
Пока не отремонтировали кабинет в здании школы на Софийке, Островский со своим секретарем сидит в комнате за директорской ложей и разбирает прошения, подписывает сметы. Несмотря на то, что на полу ковер, понизу сильно дует, сидят они в калошах, и когда после долгих занятий под газовыми лампами выходят на улицу, то первые секунды ничего не видят: усталые глаза будто запорошило песком. Но все эти малые неудобства кажутся временными: все еще только налаживается, устраивается...
В новом роскошном кабинете, куда они вскоре переезжают, и в самом деле светло, просторно. Только полы почему-то затянуты красным сукном и напоминают, шутит Островский, "что-то инквизиторское". У дверей бессменно дежурит капельдинер.
Уж не стал ли он театральным генералом? По Москве уж прошелестел такой слушок. Нет, конечно. Но одной добротой в театре мало что сделаешь. И, зная за собой свою мягкость, Островский увлеченно играет в "начальство". Ему хочется и внешне выглядеть представителем строгой, но праведной силы.
Он является на службу минута в минуту, в форменном вицмундире, строжайше соблюдает дни и часы приема. Идут и идут к нему просители (однажды, по подсчету секретаря, он принял пятьдесят два человека). Кто просит оклад увеличить, кто жалуется, что ролей не дают, кто умоляет вернуть его на должность. А есть и просто любопытные, приходящие под пустым предлогом взглянуть на "самого Островского".
Всех он выслушивает терпеливо, не торопя, не перебивая, и каждого отпускает удовлетворенным если не решением дела, то благожелательным советом. Лишь изредка, так же ровно и покойно переговорив с посетителем, оказавшимся из числа театральных сплетников и наушников, Островский рисует в воздухе вослед ему указательным пальцем букву "О" - и Кропачев смекает: "Отказать".
Все это был служебный быт, сам по себе не слишком сладкий. Издали все представлялось иначе. Но главное, с первых же шагов своей новой деятельности Островский сделал столько неприятных открытий, что у другого давно бы руки опустились. Пожалуй, и он не ожидал, насколько все его планы и возвышенные намерения будут парализованы театральной рутиной и распоряжениями прежнего начальства.
Выяснилось, что бенефисы актерам распределены на сезон вперед и нет никакой возможности раньше будущей осени заняться постановкой новых пьес, старательно им заготовленных. Значит, не увидят пока света рампы ни комедия Лукина, ни феерия Мысовской...
Не так легко оказалось проститься и с прежними чиновниками конторы. Все они упрямо цеплялись за места, и для начала удалось расстаться лишь с Погожевым: пригласив его в директорскую ложу, Островский смог, наконец, сполна объяснить специалисту по "сердечным отношениям", что он о нем думает.
Попытки трансформировать труппу также вызвали волну нареканий и недовольств. Актеры держались по старым контрактам и на сцене по-прежнему блистала Волгина "с выстриженным лбом", столь нелестно им аттестованная. А тут еще пошли просьбы о протекциях: великий князь Константин Николаевич просил через своего адъютанта принять на оперную сцену молодую певицу Белоху; потом заступился за уволенного было безголосого певца Матинского. Попробуй откажи ближайшему родственнику царя!
- Ну, amicus, окунулся я в омут, - со вздохом говорил своему секретарю Островский.
А тут еще дела хозяйственные. Воровство, надувательство стали обычным делом в театре и давно уже никого не удивляли. Только Островский еще имел наивность возмущаться, когда обнаружил при инспекционном обходе, что в помещении для декораций вместо поставленных в отчете новых столбов потолки подпирали сгнившие старые. Их слегка подбелили снаружи, но стоило тронуть их рукой, как склад стал заваливаться... А проходя по театральному училищу, он заметил как-то, что массивные дубовые рамы в окнах, готовые простоять еще сто лет, меняют на хлипкие сосновые. Оказалось: старые рамы приглянулись одному из начальников для огуречных парников на даче.
И во все это он должен был вникать, всем этим заниматься. Доставшуюся ему в наследство неурядицу Островский принимал близко к сердцу, но чувствовал, что плывет со спеленутыми руками. Каждая, даже маленькая перемена давалась туго - с тысячами волнений, недоразумений, неприятностей. Такой ли виделась ему в мечтах новая его деятельность?
Дома это плохо понимали. Марья Васильевна гордилась новым его положением, хотела, чтобы он выглядел "превосходительством". Сердилась, что он мало советуется с ней по делам театра. Она здесь сама служила, всех знает наперечет. Неужели ей неизвестно, кого принять в труппу, кого уволить, кому какой оклад и какую роль назначить? Ее мучило неутоленное тщеславие бывшей актрисы.
Александр Николаевич просил своего секретаря, чтобы ничто из его разговоров и распоряжений по театру не выходило за стены кабинета, и особенно не любил, когда Марья Васильевна являлась к нему на службу и врывалась в кабинет в разгар занятий. Он боялся ее пристрастности, неделикатности, мягко выпроваживал ее, а дома, как умел, гасил ее раздражение.
Всякий раз ему приходилось уговаривать ее, убеждать, что ему нужен покой. "К работе я привык, и она меня не очень утомляет, - терпеливо объяснял он ей. - Для меня и особенно в моих летах губительны всякие волнения и расстройства. Спроси у первого попавшегося доктора, всякий тебе скажет, что человеку в 60 лет, нервному и больному, сильное раздражение всегда грозит ударом или мгновенной смертью... Раз пройдет, два пройдет, а в третий, пожалуй, и не пройдет. Хорошо, как пришибет сразу, а как останешься живым трупом, без руки, ноги, без языка, себе и людям в тягость!" Но покоя дома ему не было.
Марья Васильевна мечтала о директорской казенной квартире, ее обещали отделать к осени. А пока решили распорядиться так: семья, как только потеплеет, уедет в Щелыково, мебель и книги, чтобы не платить зря летом за квартиру, перевезут в театральный склад. А сам Александр Николаевич - надо же и его где-то пристроить - поживет один в гостинице, а когда кончит дела, приедет в деревню...
Апрель и май Островский был занят составлением будущих штатов труппы и театральной школой. Из труппы надо было, в конце концов, изгнать таких актрис, как Волгина, а пригласить в Москву Стрепетову, Писарева...
Школа была любимой его заботой, главным детищем. Он терпеливо высиживал школьные экзамены, беседовал с воспитанниками. Его привыкли видеть в эти дни в коридорах училища, среди веселой молодежи, окружавшей его плотным кольцом, заглядывавшей ему в рот. С восторгом принималось любое его слово, добродушные шутки.
Одним из экзаменовавшихся был грек из Одессы Деспотулли, принявший театральную фамилию Тигранович. Когда он провалился в роли Чацкого, Островский заметил, улыбаясь, что зато, быть может, из него выйдет неплохой переводчик - ведь он так находчиво перевел свою фамилию...
Шутки его не были обидны, малейший знак его одобрения ценился необычайно высоко, и воспитанницы школы иначе не звали его, как "добрый Александр Николаевич". В школе он заглядывал на кухню - снимать пробу, и в лазарет к больным; не было тут мелочи, которая бы его не занимала. Но главное было впереди. Он подготовил на будущий год обширную программу занятий, которая включала в себя выразительное чтение и пение, постановку дикции и фехтование, обучение истории театра и драматической литературы, и сам собирался преподавать в классах.
Ему хотелось действовать, работать, хотелось скорее увидеть плоды своих трудов... Но все утопало в мелочах каждодневья или откладывалось до будущего сезона.
А между тем он все чаще задыхался, накатывала волной отвратительная слабость, и он начинал чувствовать себя непоправимо старым. В тот миг, когда вот-вот, казалось, будет достигнута цель всей его жизни, он "с ужасом ощутил", что взятая им на себя задача уже не по силам. "Дали белке за ее верную службу целый воз орехов, да только тогда, когда у нее уж зубов не стало", - вырвется у него. Начинался, по словам Островского, "последний акт" его жизненной драмы.
Смертельно усталый, задыхающийся, во время экзаменов в школе он глубоко уходил в кресло, поникал головою, закрывал глаза, и казалось, уже не живет. Но кончался музыкальный номер, он встряхивался, на бледном лице его появлялась слабая, измученная улыбка, и он благодарил педагога и воспитанницу.
21 апреля во время юбилейного спектакля "Ревизора", когда хор Большого театра пел "Славу" Гоголю перед его бюстом, стоявшим на сцене, чиновник особых поручений Овсянников подошел к Островскому в ложе, наклонился к его уху и нашептал льстиво:
- И вас, Александр Николаевич, будут так же чествовать. Как это будет вам приятно!
- Покойнику-то? Какое удовольствие! - обрезал его Островский и отвернулся.
В мае семья уезжала в Щелыково. Выносили вещи из квартиры, сняли портреты со стен, упаковали книги, и он сидел в осиротевшем своем кабинете, перед широким пустым столом, одолеваемый дурными предчувствиями.
Потом перебрался в гостиницу "Дрезден" на Тверской, в 34-й нумер. Управляющим гостиницей был С.М. Минорский, когда-то квартирант в доме отца, знакомец юных лет. Теперь он предложил Островскому временный приют у себя.
20 мая в номере гостиницы с ним случился сильнейший припадок. Он дрожал и задыхался, временами у него пропадал пульс: думали, что он умирает. Навестивший его на другой день доктор Остроумов понял, что дела больного плохи, но постарался успокоить его.
"У меня в среду был Остроумов, - писал Островский, немного придя в себя, Марье Васильевне, - исследовал меня и говорит, что болезнь моя произошла от разных тревог, волнений и потрясений - что у меня расстроен грудной нерв...".
Наивно-откровенные и пугающие диагнозы прошлого века: "удар", "разрыв сердца", "грудная жаба"... А тут еще "грудной нерв"... Причину болезни ученый-медик определил верно. Оглянешься назад - сколько боли, ушибов, падений, надрывного труда! Сколько оскорблений, провалов, запретов... А безденежье? А личные драмы, тщательно упрятанные от мира? И все это в себе, все хоронилось потаенно, и боль внутренняя, как то бывает, выходила наружу физической болью: то "колотье в боках", то страшная "невралгия головы", то однодневная лихорадка, то еще бог весть что - чем только он не мучился последние годы! И вот к шестидесяти трем годам - изношенность полная; астма душит, сердце на исходе.
А "грудной нерв" был, понятно, изобретен Остроумовым, чтобы успокоить больного. Сам же Островский не хотел пугать Машу своей болезнью, но мечтал получить в Щелыково желанный покой. "...Малейшее волнение или раздражение, - писал он со слов врача, - могут произвести мучительный припадок... А в Щелыкове мне нужно спокойствие и уединение; чтобы до меня ничего не доходило. Об этом уж ты позаботишься, только бы мне доехать".
В последние дни случилась семейная неприятность, сильно взвинтившая Островского. Сын Миша - тихий, скромный юноша, любимец отца, заявил ему, что обязан жениться на дочери его приятеля, композитора Кашперова. Он нравился этой барышне, и они, по-видимому, были уже близки, что поощряли родители невесты. "Как? Ты обязан?" - закричал в ужасе отец, вспомнив себя, свою судьбу, и схватился за грудь.
24 мая припадок повторился и продолжался неслыханно долго - с десяти утра до четырех часов вечера. Покрытый испариной, смертельно бледный, Островский стоял на ногах, опираясь о стул, - это помогало ему спастись от удушья.
В гостиничном номере он еще пробовал заниматься театральными делами, подписывал какие-то квитанции, обсуждал оперный бюджет... Наконец объявил, что едет, и просил Кропачева выбрать из его чемодана и взять все, что относилось к театру, - видно, не хотел увозить в Щелыково ни одной деловой бумаги. Кто знает, что его ждет? Пережить бы лето. Так многое надо менять в театре с начала сезона... Последние слова в его театральном дневничке: "...играли скверно".
В светлый, ясный воскресный день 25 мая, за три дня до отъезда, Минорский уговорил его прокатиться в коляске по воздуху. Они не спеша проехали весь город, выехали за заставу, поднялись на Воробьевы горы, и Островский долго смотрел на расстилавшуюся под ним в голубоватой дымке панораму - крыши, фабричные трубы, купола и колокольни - и будто прощался с Москвой.
28 мая он еле добрался до вокзала. Костюм обвис на нем, форменная фуражка с кокардой и красным околышем сбилась набок; он был бледен, хватал полуоткрытым ртом воздух, но старался держаться.
С утра он долго ждал в номере обещанного визита профессора Остроумова - он так и не явился: дурной знак для больного. Приятель сына, студент-медик В.Подпалый, попытался его ободрить. Островский ответил ему: "Господи! Три дня ничего не ел, три ночи... нет, не три - одну спал с перерывами - две ночи не спал... Что за силы, что за энергия в шестьдесят с лишком лет!"
Дорога от Кинешмы была неудачной. Своего экипажа на станции не оказалось: видно, что-то перепутали, забыли выслать лошадей вовремя. Пришлось напять пролетку. К тому же погода испортилась, через Волгу переправлялись при дожде и ветре, дорогу развезло и пролетку било в колеях.
Марья Васильевна не ждала беды. Договаривалась с мастером из Кинешмы, чтобы он приехал настроить фортепиано, вела какие-то переговоры о лодке; ожидалось благодатное, с гостями, пением и прогулками щелыковское лето. Но Островский как вошел на крыльцо своего дома, так отчего-то расплакался неудержимо.
Объяснили это волнениями дороги и успокоились. На другой день ему и в самом деле было лучше. Он разложил бумаги, стал думать о работе. А еще через день Александр Николаевич долго гулял по саду, говорил, что ему так хорошо, легко, как давно не было. Он даже достал рукопись начатого им прежде перевода "Антония и Клеопатры" и стал ее просматривать. Удивительно, как шла в лад эта шекспировская драма с настроением его собственных поздних пьес: трезвый век Рима убивал былую романтику. Островский увлекся работой, что-то в ней поправлял, дописывал и, по привычке, в последний раз поставил на рукописи дату: "1 июня".
Второго июня был понедельник, Духов день. Утро выдалось похожее, солнечное. Островский с вечера чувствовал себя неважно, встал с трудом, оделся с чужой помощью и перешел в кабинет.
Марья Васильевна ушла в церковь к ранней обедне. "Помолись за меня", - попросил ее Островский. Он вышел на терраску над лестницей и долго не мог оторвать глаз от Куекши, от лесов, еще нежно-зеленых, не набравших полного листа... Потом вернулся в кабинет.
Было часов 10 утра, когда, сидя с номером "Русской мысли" в руках, он почувствовал, что задыхается, попробовал подняться и упал, разбив висок о край стола. Когда дочь Маша вбежала в комнату, она нашла его распростертым на полу. Его подняли и посадили в кресло. Он прохрипел раза три и затих.
Послали за доктором, на месте его не оказалось. Приехавшая из земской больницы фельдшерица констатировала смерть от разрыва сердца.
Марью Васильевну тронул за плечо в церкви посланный в Николо-Бережки верхами работник и тихо сказал, чтоб она шла домой: Александру Николаевичу очень худо.
В первую минуту она не поверила тому, что слышит, а потом уж не помнила себя от страха и горя. Вернувшись домой, она вбежала в комнату, где его положили, и упала на грудь мужа с криком: "Александр Николаевич, пробудись!" Но его спокойное, посветлевшее, с чуть заметной улыбкой в уголках губ лицо было недвижно, а глаза закрыты навсегда. А немного спустя вокруг покойного уже кипела обычная похоронная суета.
Приехали вызванные телеграммами родственники: Михаил Николаевич, Петр Николаевич, сестры. Появился старый друг - купец Иван Иванович Шанин. Прибыл коллега по управлению московскими театрами А.А. Майков и совершенно убитый случившимся Кропачев.
Актеров, писателей среди приехавших не было. Часть труппы Малого театра была на гастролях в Варшаве. Иные путешествовали по театральной провинции, иные разъехались по дачам; время летнее, никого не сыщешь... Где они - Горбунов, Бурдин, Садовский, Музиль? Где старые друзья - Тертий Филиппов, Сергей Максимов? Где молодые драматурги - Соловьев, Невежин? У каждого нашлись причины не приехать на эти похороны - кто занят, кто в отъезде, кто узнал слишком поздно.
Марья Васильевна лежала без чувств - его обряжали чужие руки. Прислуга почему-то надела на него вицмундир театрального ведомства. И в гробу он обречен был остаться дворцовым чиновником.
Облаченный в стихарь Иван Иванович Зернов, щелыковский "морской министр", уныло читал псалтырь, стоя неподалеку от его изголовья. Крестьяне снесли гроб на полотенцах - через ручей, через овраг, к погосту Николо-Бережки.

Церковь Николая Чудотворца
Церковь эту когда-то выстроил по обету владелец Щелыкова Ф.М. Кутузов. Застигнутый бурей в Эгейском море во время войны с турками в 1769 году, он мнил себя погибшим и обещал небу в случае спасения возвести в своем костромском имении храм божий. Корабль его прибило к берегу, и он исполнил обет и выстроил церковь, в названии которой остались и морской Никола и спасительные "бережки".
Вот он его, Островского, вечный берег! 5 июня в солнечный ясный день - в такие дни он любил спускаться к омуту с удочкой и ведерком в руке - под звон колоколов церкви Николы-Бережки тело Островского было предано земле.
Как не похожи были эти похороны на недавние торжественные прощанья с Достоевским, Тургеневым! Там - толпы народа, запрудившие столичные проспекты, шествия, венки, депутации, речи. Но, может быть, этого-то и не желал Михаил Николаевич, опасавшийся поставить себя в ложное положение участием в гражданской манифестации и отсоветовавший везти тело в Москву.
Островский лег в землю тихо, незаметно, в глухом лесном углу России. Хоронили его по-домашнему скромно, но сердечно, как местного помещика, как доброго человека. "Вся округа запечалилась", - вспоминал потом кто-то из крестьян.
Верный amicus Кропачев, смущаясь выпавшей ему ролью, сказал несколько слов над открытой могилой, но так волновался, что в середине речи потерял сознание и едва смог кончить.
Приехавшие из Костромы чиновники - представитель губернатора Арцимович, местный управляющий государственными имуществами Герке, судейские - во все глаза глядели на Михаила Николаевича. Живой министр был им интереснее мертвого писателя. Михаил Николаевич горевал искренне, достойно и степенно.
Как по-разному сложилась у них жизнь! Если бы отец, рядом с которым опустили тело брата, мог видеть его теперь! В Михаиле Николаевиче осуществилась его мечта: он многого достиг и, можно сказать, прожил жизнь счастливо. Встречались, конечно, неприятности по министерству, волнение не угодить государю, соперничество с другими придворными. Но все же жизнь образовалась солидная, размеренная, лишенная мелкого дерганья... Он и доживет ее хорошо: чиновники министерства с почетом проводят его на покой, отпечатав на память в типографии альбом с лестным текстом и своими фотографиями; новый царь Николай II пожалует ему высший орден России - Андрея Первозванного и рескрипт с описанием его заслуг, и он тихо скончается в своей постели в 1901 году, перешагнув в неведомый ему XX век.
Его успех при жизни был куда несомненнее успеха брата-драматурга. В петербургских канцеляриях и при дворе говорили, бывало: "Это какой Островский - брат министра?" И можно ль поверить, что совсем скоро станут говорить о нем: "Это что за Островский - брат драматурга?"
А драматург прожил свою жизнь в непрестанном лишении, волнениях, тяготах безденежья, с перехваченным цензурой горлом - и лишь на пороге смерти будто расправил крылья, да не полетел уже: поздно было. В его жизни набралось, пожалуй, не много ровных, счастливых дней. Но радость и страдания других людей он умел пережить, как собственные, и это проложило его искусству дорогу к вечности...
Вот и свежий холм над могилой, гора полевых цветов и большой деревянный крест с надписью "А.Н. Островский".
Говорили, что хоронят его здесь временно. Запаянный металлический гроб собирались по осени перевезти в Москву и похоронить его там торжественно на Ново-Девичьем кладбище, рядом с Писемским - будто бы и сам он так завещал. А к осени всем не до того уж было. Театр - храм муз и притон сплетен, начиненный взрывчатыми самолюбивыми страстями, - продолжал жить своей жизнью: заново делили оклады и роли, любимцы Островского попадали в опалу у дирекции. Кое-кто со смертью его вздохнул облегченно: беспокойного человека, опасного реформатора не стало.
В первый год, приличия ради, назначили его преемником драматурга Чаева, а потом снова воцарилось "конторское управление". Будто он не бился, не мучился, не побеждал, не писал своих записок, будто не реформировал театр и школу. Все сдуло, как не было.
Бездарность брала реванш. Пьесы его перестали ставить. Мелкая месть чиновников: в 1887-1888 годах на московской сцене не шло ни одной его комедии. Да и во все последующее десятилетие пьесы его давались не часто, почитались устаревшими, и лишь изредка кто-нибудь из актеров брал их в свой бенефис.
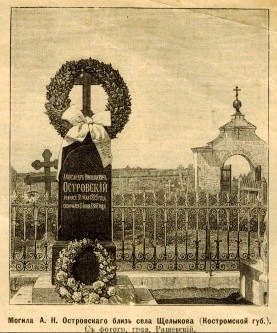
Спустя три года по его смерти Марья Васильевна поставила над могилой скромный памятник из черного мрамора. О том, чтобы перевезти его тело в Москву, уже не вспоминали.
Да, может быть, и хорошо, что он остался лежать здесь, на деревенском погосте за приземистой каменной оградой. Тут же, через овраг, его дом, и сад, и берендеева слобода, и Ярилина долина, и ключ Снегурочки, и три реки с ласковыми мерянскими именами - Куекша, Мера и Сендега.
Казалось, об Островском забыли. Наступили иные времена. В моду входили Ибсен, Метерлинк. Десятую годовщину его смерти фельетонист газеты "Новости" почтил признанием: "Ведь вы теперь почти во всех театрах и гостиных услышите делающееся уже стадным решительное мнение: Островский устарел".
Забыли, казалось, не только о его пьесах, а о его битве за театр, о дерзких планах переустройства сцены.
Но в 1898 году в отдельном кабинете московского ресторана "Славянский базар" встретились два мечтателя: молодой драматург Немирович-Данченко и актер-любитель Алексеев, выбравший себе псевдоним Станиславский. Они просидели ночь напролет, проговорили чуть не целые сутки о репертуаре, актерах, публике и решили создать новый - народный, общедоступный театр "с теми же задачами и в тех же планах, как мечтал Островский". Жизнь его театральных идей, как и сценическая жизнь его пьес в потомстве, только еще начиналась...
Если подняться на колокольню погоста Николы-Бережки, то откроется оттуда во все стороны диковинный вид на поля, леса, холмы, перелески, на тихие долины речек с густыми кустами над омутом, с белым парком, ползущим по вечерней прохладе от воды.
Здесь, в мерянской земле, по сторонам древнего галичского тракта, в заповедных лесах, луговинах, по берегам рек с запрудами, у грубо тесанных банек и полуразрушенных мельниц, в тенистых черемуховых оврагах - будто явлена великая сцена поэтических пьес Островского, без кулис, софитов и рисованного задника.
По какой дороге от старого дома ни пойди, какую тропу ни выбери, непременно натолкнешься на еще какое-нибудь, незнаемое тобой прежде щелыковское диво.
Вот вы стоите на обширной лесной поляне, где рождается и живет бессонное эхо. Островский бывал здесь, и, кажется, на этом клочке земли еще не отзвучал живой его голос.
По правую руку от вас - кусты и болотце, по левую - росистый луг. Если найти здесь какую-то верную точку - два шага от одного дерева, три от другого - и окликнуть лес, звуки голоса, огибая лесной бугор и ударяясь в края дальнего бора, пятикратно ответят вам, слабея и замирая в отголосках, уходя за вершины елок, за луг и болотце, к излучине Сендеги.
"Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом..." - пять раз отзывается им щелыковское эхо.
Окликать давнее прошлое, думать о судьбе писателя вернее всего в этих местах, где поселен дух его поэзии.
Рассуждая о судьбе Сократа, Гегель как-то высказал мысль, что великая жизнь тоже создает себя как бы по законам искусства. Тут та же, что в художественном творении, полнота и завершенность в осуществлении своей идеи, когда нет ничего лишнего и каждый побочный мотив сознательно и бессознательно служит целому. Цельность, "художественная" безусловность личности занимает нас и в крупной человеческой судьбе.
Островский жил трудно, много бедствовал, самоотверженно работал, тайно страдал. Но жизнь прожил, будто создал ее - по верности простым идеалам: родной природе, искренним чувствам, добрым людям и главному счастью и муке своей жизни - театру.

http://az.lib.ru/o/ostrowskij_a_n/text_0830.shtml
|
| |
| |
|  |